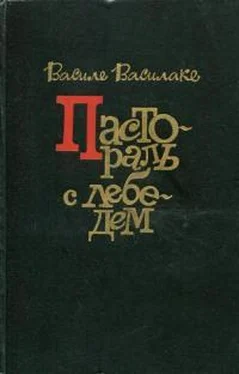— Меня аж пот прошиб… Думаю: пели наши прадеды песни, дай-ка и я спою этой малышке: «Птичка-невеличка, пташка серая, прячь скорее гнездышко, еду я, бедовый, на железном тракторе! [15]Енот грызет твоих птенчиков, самолет поливает ядохимикатами козявок, а тебе дохлыми козявками детишек кормить… Лесник подал рапорт: сохнут на корню дубравы, короеды одолели, потому что улетели птицы. А тебя прогнали отравленные ветры и стала ты, матушка, ручной, свила себе гнездышко…» Да, я же не сказал — гнездо-то устроила на самых железках. Значит, она эти ржавые гайки, чтоб им… она их высиживала вместе с яйцами! Все вместе, сват, за компанию: пять гаек, три яичка и тридцать девять градусов — температура инкубатора. Негата говорил: «Все наперед расписано», откуда же берутся такие птицы — ручные?
Жена махнула рукой: покатилась тыква, понесло Никанора… Широко зевнула, лениво, со смаком. Бостан из уважения умолк, подождал, пока утихнет сладкий стон, но Вера еще разок зевнула от души, пожаловалась:
— Ох-хо-хо!.. Простите, дорогие, вечером поздно легла. Печку перекладывала, а то стала дымить…
Потерла лицо ладонями, словно умылась, зашептала что-то матери невесты. Поднялись обе, как по команде, задвигали стульями, выбираясь из-за стола. Никанор молчал, как молчит человек, которого оборвали на полуслове, но он зацепился за ниточку в уме и не отпускает. Хлопнула дверь, и он горячо стал доказывать отцу невесты:
— Видали? Им не интересно. А я думаю, сват, эта птица — знамение! Знаете, у меня в телевизоре мыши расплодились, хоть из дому беги.
Он усмехнулся и крикнул вслед ушедшим женщинам:
— Вернись, жена, расскажи свату про телевизор!.. Такие штуки там мышата творят — кошку выжили из дому. А что? Тепло им там, чисто, можно сказать, на электричестве живут, концерты слушают, весело… А что за радость пташке сидеть голой грудью на железках? Такая кроха греет пять холодных гаек и три яйца! Понятно, почему, например, моль жрет капрон: кругом один капрон остался? Но эта бедная птица…
Никанор покрутил головой.
— Сват, помните семьдесят второй год? С февраля дождя не было, капельки воды с неба не упало. Март пошел, дождя нет, апрель проходит — ничего, в мае даже росы на траве не видно. Уже люди ходят серые с лица. И не стучат себя в грудь, что пешком гуляют в космосе, а думают, как быть с землей, чем кормить фермы. Может, послать за соломой в Казахстан? Так в трубу вылетишь — все, что дает наша ферма, дешевле вагона соломы. Ее еще привезти надо, не забудьте. Транспорт, машины, бензин — бьют по карману, будь здоров. Эх, сват, натерпелся я… когда дождя нету, всякая муть лезет в голову…
Ну вот, вспомнил я это и так погано на душе стало… Путаются под ногами умники с корзинками вместо панамок… Плюнул я и пошел с горя в лес: поброжу, пока братец из Калараша вернется, остыну малость, а то жара такая — сорок градусов с ветром! И клянусь вам, сват дорогой, смотрю на лес — зеленый стоит, заросли густые, а не радуется душа, хоть криком кричи. Как увидел птенчиков на гайках, сердце будто не на месте. В лесу-то славно, полянки с травой, а когда поездом ехал, в окошко глянуть было страшно. За Пырлицами что творилось, мать честная!..
Скривившись, Никанор замолчал и потер рукой лицо, словно, как в тот день, не то лесная паутина налипла, не то кожа горела от суховея.
— Давно такого урагана не припомню. Сколько дней тогда, в мае, свистело и выло, и на душе кошки скребли… Значит, едет наш поезд… Выглянул я и глазам не верю: что это по небу летит, неужто земля? Черные пыльные тучи в воздухе, и клубятся, и несутся. Что за тучи, откуда? Это же горы наши, это долины летят. Словом, родная колхозная землица…
Никанор повертел стакан в руке, помолчал.
— Мы теперь по науке пахать стали, верно? Приезжали к нам как-то с лекцией, говорят: обработка почвы — целая наука, тут тебе, брат, миллионы гектаров, а не грядка под укроп. И с поезда я вижу: ветер выдергивает пшеницу, как шерсть с облезлой овцы, с корнями, с землей, и гонит по воздуху. Темень кругом, солнца не видно, будто саранча налетела. Конец света, и только. В наших краях холмы спасают, а в Бельцевской степи ветер гуляет, как на аэродроме. Говорю себе: вот, Никанор, вот оно, проклятие, — труд человеческий развеялся по ветру. Куда же забросит эту землю, где она успокоится? Потом я подумал, когда уже плюнул на трех оглашенных с «ручной» птицей и ушел в лес: гуляешь ты, Никанор, руки в брюки, а где-то ветер несет по небесам пшеницу. Хорошенькое дельце! Тебя в лесу жара не бьет по темечку, но птица отсюда удрала, высиживает гайки под навесом, и у детей пустые корзины вместо головы. Забрел в чащу, благодать — тенек, воздух так и ходит волнами, прохладно посреди пекла. В степи-то сорок два было, по радио передавали, да и в лесу кое-где ящерицы повылезли из нор и рты от жары разинули. Поглядел я на них, сбросил рубаху, штаны и что еще там было, пошел дальше в чем мать родила. Хожу голяком — что за черт, тоже вроде задыхаюсь и в башке неразбериха, шум какой-то. Ну, говорю, спекся, Никанор, пригрели тебя сорок два градуса! Завертелось в голове от жарищи этой, и пошло, и поехало… Вспомнил, как бабка моя кричала на засуху, и стало меня словами мутить: «Железная птица на железной скале развела железных птенцов… И клювы железные, и когти железные, и перья у них из железа, встряхнется птенец — сыплет ржавчиной… Крошится железная скала, скулит сурок — земляной щенок, и несет его вихрем по воздуху. Железные птахи пищат-верещат, земля из виду сокрылась, и поднялся над землей щенок земляной и скулит птенцу из-за черной тучи: «К мамке своей беги и за голову схвати и вырви из клюва ее высохшее солнце, творящее хвори-болезни, сухое солнце с чирьем в голове, сухое солнце со страхом в голове, от злого горя иссохшее солнце, сухое от голода, от смертного жара. Клювом повысоси, крылами обними…»
Читать дальше