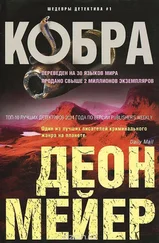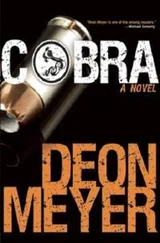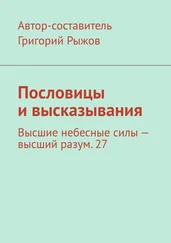— Почему ты выбрал самый дорогой отель в Париже, когда у тебя не было ни гроша?
— Дорогой мой, сразу видно, что ты не умеешь жить. В третьеразрядном отеле мне точно так же нечем было бы заплатить. Так зачем себя ограничивать.
Полгода спустя Хелен Мерфи-Мендоса скончалась в Лондоне от сердечного приступа, и Жетулиу в очередной раз пошел в гору.
— В целом, — сказала Зава после заседания, которое продолжалось почти весь день, — все оказалось гораздо проще, чем мы рассчитывали. Я бы предложила вам поехать на выходные за город. Артур будет рад вас видеть, но вы не жалуете сельскую местность.
— Я увижусь с Артуром в следующем месяце. И побуду подольше. Одолжите мне его как-нибудь после обеда, я свожу его в зоопарк. А завтра я должен быть в Париже.
— Хотите, отвезу вас в отель? У меня есть машина с шофером. Не такая уж роскошь, чтобы ездить в Нью-Джерси. По правде говоря, эти круглые столы, когда часами обсуждают мелкие вопросы, наводят на меня ужасную скуку. Когда мне скучно, я сгибаюсь от страшной усталости. Даже начинаю жалеть, что я больше не глухая.
— Если у вас есть время, подбросьте меня в «Копакабану».
— Встреча?
— Нет, простая привычка.
Как и каждый вечер в этот час, бар набит битком. Едва он отыскал в баре местечко и сделал заказ, как над скученной группой выпивох показалась голова Жетулиу, и Артур расслышал, как он прокричал, перекрывая шум:
— Готов поспорить, что ты приехал посмотреть на Элизабет в «Ночи игуаны». Она там великолепна. Только на нее и смотришь. Теннеси ее обожает.
Он присел на корточки или на низкий стульчик — как это он вдруг пропал, словно кукла, вырвавшаяся из удушающего круга приятелей? Работая локтями и плечами в плотной толпе, которая потягивала стоя сухой мартини и неразбавленный виски, Артур продрался в глубину зала, надеясь узнать подробности: в каком театре играет Элизабет и с какой целью Жетулиу направляет его к ней после стольких лет? Добравшись до компании, в которой тот прятался, Артур обнаружил пустоту. Жетулиу окликнул его от входной двери, толкая ее плечом:
— Извини… меня ждут. Встретимся здесь завтра, в это же время. Посмотри на Элизабет, не пожалеешь!
Его уже поглотила оборотная сторона действительности. Отпущенная створка двери несколько раз провернулась, явив кадрированное изображение мужчины в элегантной мягкой шляпе, помахивающего зонтиком желтому такси, в котором он исчез.
Двойное волшебство света и грима чудесным образом сохранило блеск двадцатилетней Элизабет, тогда как ей скоро будет в два раза больше, и щедрая пылкость ее юности возродилась на ее лице с самого выхода на сцену. Артур видел только ее одну, слышал только тембр ее голоса, лишь самую чуточку севшего от излишеств прожитой жизни. Как удержаться и не поговорить с ней?
Завернувшись в кимоно из черного шелка в белый горошек, вытянув лицо к зеркалу, обрамленному слепящими лампочками, она стирала с лица охровый грим. Комочек ваты, зажатый в тонких пальцах с белыми ногтями, прогуливался по переносице, лбу, вискам. Она сказала: «Войдите!» не оборачиваясь, и ему пришлось наклониться над ее головой, касаясь подбородком ее волос, чтобы его лицо вписалось в рамку зеркала.
— Не может быть! Артур, это не ты!
— Нет, это я.
— Сколько лет?
— Скоро двадцать.
Ватный шарик продолжил свое путешествие под изгибами бровей, у уголков губ, по краю подбородка, который Элизабет выставила вперед.
— Мог бы и раньше проявиться. Полгода назад я гениально играла Дездемону.
— Ты забыла.
— Что?
— Что мы были в ссоре.
— А теперь уже нет?
— Мы пользуемся всеобщей амнистией. Всемирной.
— А если я откажусь от амнистии?
— Не откажешься. Твои страсти утихли. Ты играешь в театре на Бродвее и больше не хамишь публике.
— Времена изменились. Нельзя бесконечно ломать обрушившиеся стены. И потом, у меня слишком много работы. Вечером играю в театре, утром снимаюсь в кино с шести до полудня.
— Когда же ты спишь?
— Одна.
— Я не спрашиваю тебя, с кем, я спрашиваю, когда?
Она открыто рассмеялась.
— Да знаю, знаю, дурачок, но могу же я повеселиться? Угадай, кто заходил ко мне в уборную вчера вечером! Это тем более смешно, что сегодня явился ты. Вы что, сговорились?
— Кто?
— Жетулиу и ты.
— Я его сто лет не видал.
Глядя ей в лицо, он бы не солгал. Глядя в зеркало, это гораздо легче. А потом, разве они не в театре — наилучшем месте для самых изощренных подстав, путаницы, бессовестной лжи, великолепных или жалких рогоносцев, любовников, спрятанных в шкафу, вмешательства провидения? Зал выдыхает, когда изменник разоблачен, но здесь они одни, без зрителей, некому крикнуть, что они позабыли текст. Уже ничего нельзя понять в той пьесе, которую они пишут на ходу, не обижая друг друга. Нельзя вообразить себе ничего романтичного в гримуборной, где пахнет потом, несвежим бельем, дрянной рисовой пудрой, гримом. Объяснение, которое не нужно ни ей, ни ему, подождет еще двадцать, тридцать, шестьдесят лет, пока стоя одной ногой в могиле, они не позаботятся о том, чтобы собрать, наконец, головоломку и больше не таить друг от друга недостающие детали в игре, с самого начала ведшейся нечестно. Элизабет развязала пояс своего кимоно, соскользнувшего с ее обнаженных веснушчатых плеч.
Читать дальше