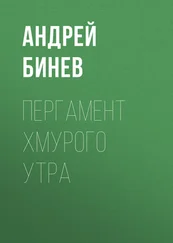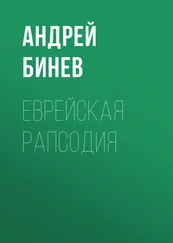– Кругом одни пожары! – почти мечтательно вздыхал старик.
Только когда расставались, представился Григорием Владимировичем, улыбнулся, и лицо его внезапно расцвело добрым, доверчивым теплом. Павел с раздражением подумал и о себе, и о Пустовалове, гордившимся своим фронтовым прошлым так, будто, кроме как на их личных рубежах, больше нигде войны не было. Он опять вспомнил о том, кого оставил в крови на каменном полу уборной, и испугался этих мыслей еще больше, чем раньше – а вдруг и там был свой непреодолимый рубеж, своя невыносимо тяжелая задача, стоившая жизни двадцати разведчикам?
Вот ведь сбрасывал старик «зажигалки» с крыш, худой, жилистый, один на один с пикирующими бомбардировщиками, прямо над его седой головой, над путаными бровями и бесцветными глазами! Осколки барабанили, наверное, по листам вокруг него, всё пылало, а он бился и бился с этим так, точно нигде больше не было войны. У него был свой, личный, рубеж, и на нем надлежало оставаться до самого конца. Он и на проходной стоял со своим наганом, из которого никогда так ни разу и не выстрелил, также твердо, как на тех крышах. А Пустовалов поплевывал в его сторону, помня только свою войну.
Павлу приходилось и уже позже видеть старика и даже наблюдать издалека, как тот ветшал, слабел, покрываясь все гуще сетью морщин. Больше они никогда не заговаривали, старик все также строго, также внимательно, когда доводилось, смотрел в его пропуск, и сухо кивал, проходи, мол, всё в порядке.
Учеником в бригаде Петра Пустовалова Павел оставался очень недолго. Он как-то особенно быстро усвоил то, что от него требовалось, и уже довольно скоро стал выполнять свою работу вполне самостоятельно, без постороннего недоверчивого контроля. Пустовалов им страшно гордился.
– Ну, что, войлочник! – смеялся Петр, – Валяешь валенки? Не обжигаешься?
Павел смущенно улыбался.
Как-то его вызвали в отдел кадров и строго, не слушая никаких возражений, отчитали за то, что не учится.
– У нас тут одна химия да физика, – говорил полный мужчина с двумя рядами орденских планок на поношенном, засаленном пиджаке, – А вы, Тарасов, как будто не понимаете веяний времени! К нам французы и англичане ездят, даже американцы, а вы что?
– Что я? – Павел удивленно распахивал глаза.
– Не учитесь! Вот что! Стыдно же, молодой человек! Химию надо знать! А то натворите тут черт знает чего…, позор!
Почему надо было знать именно химию и как это было связано с иностранными делегациями, Павел не понимал, но в вечернюю школу все же пошел.
Маше он звонил очень редко, один или два раза они даже виделись в выходные дни. Она продолжала служить там же, по-прежнему уверяла, что его не ищут, как будто ничего не случилось, но все же просила о той своей службе никому не рассказывать и о ней самой не говорить с посторонними. А то, мол, заинтересуются, начнут копать и дело дойдет до беды. При последней, сухой встрече с ней Павел уловил носом запах перегара. Маша поняла это и застеснялась. Стала торопливо, краснея, объяснять, что это все Владимир Арсеньевич, инвалид Подкопаев виноват. День рождения у него был, вот они и «усугубили». Гости приходили, с его службы. Побузили немного…
Павла это взбесило. Он поклялся больше не звонить ей, коли она так решает свою жизнь.
Жил все это время Павел в заводском общежитии на станции Железной, которая по-существу была транспортным узлом небольшого городка по прямой ветке от завода в сторону области. Раньше эта местность называлась очень неблагозвучно – Объедковым. Скорее всего, от того, что местные намеренно неправильно произносили название, потому что дело тут было вовсе не в каких-то объедках, а в самом обыкновенном объезде. Значит, правильнее было бы говорить «Объездово», но слово скользнуло куда-то в обидную сторону и там прижилось. Новое название исправило несправедливость. Однако мятежный, даже смутьянский, дух тут оставался. Он глубоко въелся в сознание людей, передавался по наследству, прятался за молодцеватой тягой к уголовной вольнице. Пьянство, скандалы, даже поножовщина были событиями рутинными в этих местах, расположенных очень близко к столице.
В городке жили железнодорожники, рабочие-гужонцы или «серпачи», как их называли посторонние, а также стояли две воинские части – полк военных строителей-железнодорожников и полк специальных войск внутреннего назначения. С ними в основном и были драки да поножовщины – на танцах, в клубе, на полунищем рынке, на грязных, разбитых улочках. Но и свадьбы тут бывали шумные – между военными и дочерьми «серпачей» и железнодорожников. На свадьбах тоже нередко проливалась кровь. Хотя к этой крови относились, как к расплесканному вину за здоровье молодых. Естественно, мол! Посуда ведь тоже бьется на удачу и даже на счастье!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу