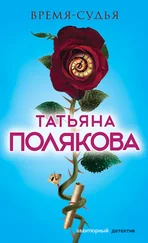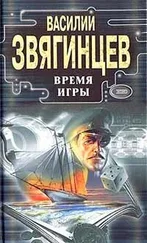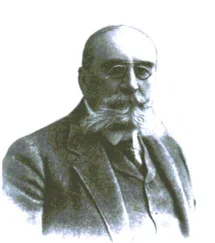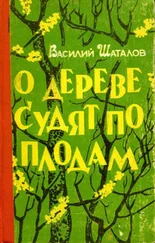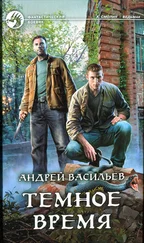Именно Михаил Гаврилович посоветовал Кузнецову попробовать поступить после демобилизации в Западно-Сибирскую юридическую школу. «И срок обучения, — сказал он, — небольшой, всего два года, и будущая работа будет тебе по душе. Ведь я не забыл, как ты подростком выступал на колхозном собрании в отношении пасечника Мышканова, которого ревизионная комиссия обвиняла в каких-то неблаговидных делах».
Действительно, такой случай был. И попало же тогда Кузнецову от его матери и тети Степаниды. Мол, что наделал, глупый парнишка, теперь зимой и лошади нам не дадут, чтобы привезти сена или дров, и солому на подстилку скоту дать откажутся. Ведь Мышканов был членом правления колхоза и самым зажиточным в деревне хозяином. Но все обошлось и давно всеми забылось, даже теткой. А вот школьный учитель помнил, хотя прошло с тех пор лет пять или шесть.
Счастливый случай помог Кузнецову уже через два месяца после возвращения из отпуска снова оказаться в Советском Союзе. Про такие случаи в народе говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Поездка в отпуск оказалась для Кузнецова тяжелой. Пришлось добираться до дома и обратно до Будапешта и в товарном вагоне, и на подножке пассажирского поезда, и в вагоне с выбитыми стеклами. Казалось, что после окончания войны весь народ и у нас, и за границей двинулся переезжать с места на место. Кузнецова дорогой просквозило. Он возвратился в часть с высокой температурой и сразу же был помещен в госпиталь. Пока он лечился от воспаления легких в госпитале, воинская часть, в которой он служил, из Венгрии передислоцировалась в Австрию. После выздоровления Кузнецова снова отправили в отпуск, по окончании которого он должен был явиться в тот военкомат, который призывал его на военною службу. Военкомат Таежного оставил Кузнецова служить в своем городе, направив его в этапно-заградительную комендатуру. Так Кузнецов почти на полтора года оказался в обстановке, далекой от мирной и спокойной службы. Через станцию Таежная в те времена проходило по 10–15 эшелонов в сутки с военнослужащими или демобилизованными из армии. Особое беспокойство доставляли солдаты первого года службы, которых везли на Курильские острова. Это были дети войны, причем часть из них во время войны находилась на оккупированной немцами территории. Некоторые из них сколачивались в настоящие банды, вооруженные трофейным оружием, громили на остановках вагоны-ледники, вагоны с водкой, затаскивали в теплушки женщин, девушек, насиловали их, нападали на милицию. Поэтому рота, которая несла службу в военной комендатуре, частенько, особенно во второй половине 1945 года, поднималась в ружье. Да и у солдат, служивших в самой комендатуре, с дисциплиной было далеко не все в порядке. Поэтому направление для продолжения службы в комендатуру фронтовика-десантника для военкомата было очень кстати.
Служба в городе, где Кузнецов до войны окончил среднюю школу, помогла ему подготовиться для поступления в учебное заведение. Ко времени демобилизации он успел несколько раз повторить все дисциплины, которые предстояло сдавать на вступительных экзаменах.
Западно-Сибирская юридическая школа была в те времена как бы полузакрытым учебным заведением, для поступления в которое абитуриенту требовалось иметь направление-рекомендацию от партийного или комсомольского органа не ниже областного уровня. Такое направление Кузнецову дали сразу же при обращении его в политотдел Западно-Сибирского военного округа.
Демобилизовавшись из армии после пятилетней службы и сдав документы в приемную комиссию юридической школы, Кузнецов вернулся в родную деревушку. Сколько раз он вспоминал ее, находясь на фронте. Какие ухоженные поселки видел он в Венгрии, Австрии и Чехословакии. Многое его поражало и удивляло: подстриженная трава, кустарник возле дома, асфальтированные дорожки, побеленные кирпичные домики, а в его деревушке ничего этого нет, но почему-то она была всех милее и дороже. Вот и на этот раз, возвращаясь домой по лесной дороге, где каждая сосна и каждый кедр знакомы ему с детства, он в который раз восхищался богатством красок сибирского леса и ароматом лесных цветов. Там все было чужое, не наше, хотя и красивое, здесь же все родное и свое.
Степанида Андреевна известие о том, что ее племянник сдал документы для поступления в юридическую школу, восприняла спокойно. После небольшой паузы она сказала: «Так зря что ли ты кончил 10 классов. Ведь не колхозных же коров пасти теперь с таким образованием». Да, в деревне это был первый случай, когда юноша закончил среднюю школу. В основном же после окончания семи классов дети колхозников или оставались в деревне работать на колхозных полях, или продолжали учебу в техникуме, после окончания которого уходили на работу в города и рабочие поселки.
Читать дальше
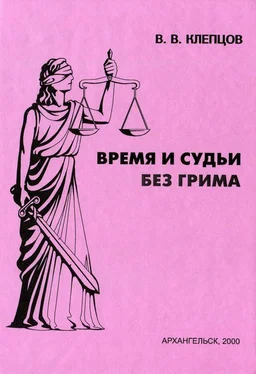

![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/29609/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik-thumb.webp)