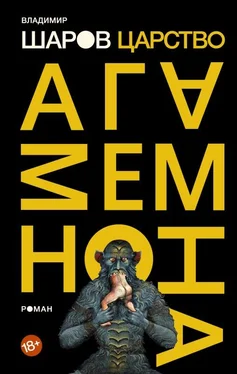Впрочем, в других отношениях я сильно уступал младшему Карамазову. В тех страницах, что написаны, в Алеше много спокойной доброй силы. В себе я ее не находил. Правда, верил, что если узнаю, откуда берется Алешина сила, как она живет и растет в человеке, то избавлюсь от своего страха. Я ни о чем так не мечтал, как о пятом томе Карамазовых, мне иногда день за днем снилось, что уже держу в руках только отпечатанный, пахнущий типографской краской том, который отец принес из сытинской лавки. Я прямо бредил этим. Утром просыпался уверенный, что даже успел его где-то посередке открыть и прочитать несколько страниц. К сожалению, не тех, после которых ушла бы моя душевная слабость.
В общем, – продолжал отец, – в юности я был в полной зависимости от Достоевского. Как на личную свою беду смотрел на то, что “Карамазовы” не дописаны. Считал, что пятая часть (правда Алеши) должна была стать высшей правдой, и что такая правда для всех нас необходима, может быть, даже спасительна. А тут после мясниковского дела начал думать, что правда Алеши, допиши Достоевский роман, была бы еще одной полуправдой, потому что настоящая правда – она у Смердякова. Что судьба и тогда, в Мотовилихе, на станции Пермь-Сортировочная, и сейчас дала мне в руки материал, не поделившись которым совершу огромный грех. Вот я и взялся за “Агамемнона”. А связанное с Алешей к тому времени перегорело, я о нем и не вспоминал»”.
Электра рассказывала, что от разных людей, не только от Телегина, знает, что в романе отец не единожды возвращался и к тому, что был родом из священнической семьи, и что в XVIII веке почти треть настоятелей московских приходов была нашей родней. Вдобавок старший Жестовский считался незаурядным теологом – был профессором по классу литургики Богословской академии в Троице-Сергиевой лавре. В молодости, десять лет проповедуя Христа на Аляске, он, как уже говорилось, категорически возражал против раннего ухода сына в монастырь, но в прочих отношениях смотрел на вещи широко – считал, что у всякого монастырского устава есть плюсы, и ты, выбирая, где и как будешь молиться Богу, обязан сообразовываться со своей природой. Иначе в служении не будет толку.
“Он был убежден, – говорил Жестовский, – что жизнь в миру, какой бы безнадежной она ни казалась, необходима. Повторял, что наш мир – поле боя с грехом, и человек на нем воин, а не трусливый заяц”. В монастырь, повторял он сыну на страницах “Агамемнона”, уйдешь лет в тридцать, не раньше, когда всё, и хорошее и плохое, познаешь на своей шкуре. А пока живи и учись. Без настоящего знания не только Священного Писания, отцов церкви, но и жизни – не поможешь ни себе, ни другим.
“А я, – говорил Жестовский Электре, – был послушный сын, сделал, как он хотел. Тем более что скоро к строительству моей мирской жизни подключилась уже и мама. Ведь это именно ее стараниями я в восемнадцатом году обручился с Лидией”.
В обоих отцовских романах, – продолжала рассказывать Электра, – как в правильной греческой трагедии, то и то не раз было обыграно.
“Поначалу, – объяснял Жестовский в “Агамемноне”, – я не спешил, не гнал лошадей. Шаг за шагом познавал жизнь. Насчет меня распорядился отец, а кто-то другой и насчет остальных, но готовы к этому оказались немногие.
Я тебе рассказывал, – говорил он Электре, – что в Воронеже был арестован, вполне мог получить и пулю, но отделался всего двумя годами тюремного заключения. После тюрьмы уже твердо осел в Москве.
Что касается нашей семьи. Родители, прокочевав чуть меньше трех лет, в итоге через Триест добрались до Белграда. В Сербии плохое для них кончилось. В Белграде отец с матерью прожили почти двадцать лет, но, слава богу, следующей войны не увидели. Отец умер в тридцать седьмом году, а мать в тридцать девятом. В смысле материальном тоже было сносно: отец профессорствовал и ему полагалось хорошее содержание. Мать много мне помогала, присылала через Торгсин и посылки, и деньги. Они надеялись, что при первой возможности я уеду из России, отец к тому времени помягчал, был готов и на мой постриг на Афоне. Насчет этого строились планы, но я уже оброс людьми, отношениями; так сразу рвать их у меня не было ни права, ни желания.
Первое письмо из Белграда пришло, когда тебе было два года, – продолжал отец, – и на подходе был Зорик. В Москве, перед отъездом в Воронеж, Лидия, с которой мы обручились, была настроена примерно как я. После гимназии собиралась принять постриг в одной из маленьких обителей на Севере. Накануне поезда мы целый вечер проговорили и нашли, что наше обручение и даже брак ничему не помешают. Родители верили, что семья, дети, которые следом родятся, сами собой отвернут нас от монастырских келий. Но мы с Лидией решили, что ничего этого в нашей жизни не будет. Мы останемся чисты. В церкви дадим обет верности друг другу, но исполнения супружеских обязанностей ни я от нее, ни она от меня ни под каким предлогом не станем требовать. Для приличия проживем несколько месяцев, а потом, никому ничего не говоря, отпустим друг друга. Дальше каждый поедет в ту обитель, куда собирался, и там примет постриг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу