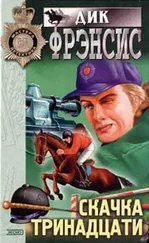О, эту сцену нужно было видеть! Бывший мой напарник по мытью полов стоял на кабине «урагана», выбросив вперед сжатую в кулак правую руку. Был он монументален, простоволос, в расстегнутой гимнастерке без погон с закатанными по локоть рукавами. На шее у Гибеля висел родимый «калашка», с примотанным синей изолентой запасным диском, из-за пояса торчала ручная граната.
— Так что же это такое — подлинная демократия? — высоким голосом вопросил он столпившихся, и сам же себе ответил: — Прежде всего — порядок, новый железный порядок, уважаемые дамы и господа! Кто способен навести порядок на обломках насквозь прогнившей, рухнувшей под напором событий системы? Только мы, молодые, не пораженные СПИДом коррупции и остеохондрозом чинопочитания, борцы за переоценку ценностей!..
— Я же говорил вам, Тюхин, — талант! — ткнув меня локтем в бок, восхитился Григорий Иванович. — Таким стоит только поднажать, и все затрещит по вшам… то есть, я хотел сказать по швам… Слушайте, так вас все-таки обрезали, или не обрезали?..
Испепелив его взором, я промолчал.
На мое счастье этот долговязый баркашовец с закатанными рукавами предложил здесь же, не сходя с места, всем, как один, вступить в ряды Новой Железной Гвардии (НЖГ), формирующейся, разумеется, под его личным наблюдением и руководством. Всем незамедлительно вступившим Гибель пообещал выдать усиленный «сникерсами» паек из той гуманитарной помощи, которая, по его словам, не сегодня — завтра должна быть сброшена на гарнизон с «геркулесов» наших новых союзников.
— Вот, — сказал он, показывая в нашу с Рихардом Иоганновичем сторону, — господа иностранные военные советники могут подтвердить!..
— Натюрлих! — без тени улыбки на лице подтвердил мой сосед. После чего Гибель сообщил, что, помимо «сникерсов», в пакетах будут еще и «памперсы», а, возможно, и фьючерсы с тампаксами и, горячо призвав всех собравшихся еще теснее сплотиться вокруг нового, уже поддержанного всем прогрессивным мирозданием, руководства, предложил всем желающим сделать три шага вперед.
Сволочь Рихард Иоганнович немедленно принялся протискиваться, таща меня за руку, но плохо же он, выходит, знал нас, Тюхин! Загулять, присочинить, проспать, сморозить что-нибудь этакое, от чего всю жизнь потом будут вставать дыбом волосы — это да, это у нас, как говорится, не заржавеет! Но своих товарищей в беде мы с тобой, Тюхин, не бросали никогда, ни за какие, бля, ватрушки, даже если эти самые товарищи наши оставались убежденными марксистами, или, еще того хлеще, — истинными левинцами. Короче, когда этот змей, пучась, зашипел: «Да ведь шлепнут же, ах ведь же… ш-шлепнут, дубина вы стоеросовая!..», — я, вырвавшись, сказал ему, что за компанию и Сундуков удавится, и тогда он, плюнув, нырнул за кольцо оцепления и уже оттуда из-за спин молодцев с закатанными рукавами показал мне оскорбительный американский жест в виде устремленного в небо среднего пальца.
И никто из наших — слышишь, Тюхин — никто! — ни Гринька, ни Сибик, ни Могила — а уж это еще те фрукты! — никто из батареи не откликнулся на его сраный призыв. Потом был торжественный обед со спиртягой, и опять Гибель агитировал. Так вот, что я тебе скажу, Лициний ты мой несусветный, спиртягу мы — не пропадать же добру — вылакали, сухари съели, а вот те бумажечки, которые раздал его шустрый подручный были все до единой использованы в сортире по известному тебе назначению.
По ассоциации — о другой бумажечке. Дня три спустя, заглянув по пути в батарею (а я к этому времени уже окончательно обосновался в 13-м номере офицерской гостиницы), в кабинете товарища майора я увидел увлеченно копошащегося в бумагах нашего писаря ефрейтора Кочумаева. По склонности своей ко всяческого рода шуткам я, подкравшись на цыпочках, гаркнул: «Бат-рарэя сырр-рна!» На мгновение остолбенев, Женька вдруг выхватил из кармана гимнастерки некую бумаженцию и, скомкав, во мгновение ока съел ее. Когда Кочумай увидел перед собой не командира батареи, а меня, рядового М., он, с облегчением переведя дух, запил съеденное прямо из графина и показал мне свой легендарно длинный язык. «Синий или красный?» озабоченно спросил он у меня. Язык у Кочумая был синий. «Значит, это я Люськино письмо сожрал», — сказал самый прожорливый человек в батарее, и вынул из другого кармана другую бумажку, и бережно расправил ее, и спросил: «Тебя записать?» — «А кто еще записывался?» — спросил я. — «Все!» ответил Кочумай. — «Тогда и меня запиши», — сказал я. Список был совершенно секретный, написанный красными чернилами. Только потом, уже после Ухода, я понял, что в нем были фамилии уходивших.
Читать дальше