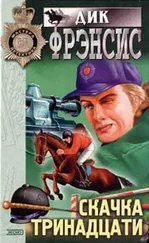— Хужэ! — выдохнул Сундуков. — Я с ей хучу в развэдку пуйти!
— Ну, зачем же так далеко, ведите ее лучше ко мне на «коломбину»…
— Тэбэ бы усе шутучкы, а я сурьезна… Слушай, — прошептал он, — ты, рудувуй Мы, грамутный, у тьебья дэсять классув убрузувания, ну скажы ты мнэ: шу, шу мнэ, старшынэ Сундукуву, дэлать в такуй дыспозыции?
— «Шу, шу…» — я взял его стакан и понюхал. Пахло компотом, самым обыкновенным, без бромбахера. — Да ведь что тут такого особого придумаешь — трахнуть ее нужно, да и дело с концом!..
Товарищ старшина Сундуков аж посинел. Челюсть у него отпала, глаза помутились:
— Ее?! Хрыстыну Удамувну?!
— Ну так а кого же еще?! Больше, вроде как, и некого. Виолетточка…
— Утставыть, Виулэтточку! — прошипел Сундуков.
— Тогда по-нашему, по-мужски. Так, мол, бляха муха, и так: приглашаю вас сегодня же вечером, в 23.00 по среднеевропейскому времени прогуляться по штурмовой полосе…
— Зачэм? — насторожился старшина.
— Да ведь там же — «коломбина».
— Кукая тукая кулумбына?
— Радиостанция наша, дежурная, елки зеленые!
— А прычем здэсь наша буевая засэкрэченная рудыустанцыя?!
Ну о чем еще с этим куском можно было разговаривать?!
— Ну, вообщем, дело хозяйское, — сказал я и, придвинув к себе его макароны, ковырнул вилкой. Харч был уже холодный, да еще, похоже, на комбижире. Вот этим самым комбижиром я тогда, в юности, и сгубил себе брюхо, жаря по ночам все на той же «коломбине» черняшку на противне, пропади она пропадом! А какая изжога с нее была, помнишь, Тюхин?.. Короче, то ли макарончики, то ли Виолетточка в себя пришла, меня вспомнила, только икнулось мне, дорогой друг и верный товарищ. А потом еще разок, еще… И тут он, макаронник чертов, обдернув китель, встал вдруг из-за стола, как проклятьем заклейменный, встал и, побледнев, вдруг пошел к буфету.
Эх, Тюхин, Тюхин! Вот, говорят: трагедия, Шекспир, Корнель, Всеволод Вишневский. Смотрел. Читал. Но когда вспоминаю ту сцену в офицерском кафе родной воинской части п/п 13–13, единственным свидетелем и очевидцем которой стал я — рядовой М., грустная улыбка трогает губы мои, я встаю на табуретку и, открыв ночную форточку, кричу: «Не видали вы настоящих трагедий, господа!.. Как поняли меня? Прием.» И часами стою, вслушиваясь, в ответные выстрелы редких бандитских разборок.
О, каким временам, каким характерам были современниками мы, Тюхин! Как герой на дзот, шел товарищ старшина на буфет. С каждым шагом все бледнее становилось его простое, с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, его курнявое, усатое, высоколобое, но не в твоем интеллектуально-поганеньком, Тюхин, а в самом высоком, самом трагическом, как Лобное место, смысле, лицо!
И вот что характерно, по мере приближения Сундукова, другое заинтересованное лицо, то, к которому старшина приближался, волшебно преображалось! Показная суровость Христины Адамовны («Куда прешь, не видишь обеденный перерыв?!») сменилась сначала недоумением, потом недоверием да неужто решился-таки?! — потом поистине девичьей — ах какой румянец вспорхнул на ее щеки! — растерянностью, и наконец первомайским кумачом радости и надежды озарилась она — Мать Полка, бесценная кормилица наша и, как это ни дико звучит, самая обыкновенная, всегда готовая к счастью, советская наша женщина!.. Когда старшина припал грудью к амбразуре, она уже была как символ грядущего неиссякаемого плодородия — крупная, расцветающая ожиданием, готовая к немедленной и безоговорочной капитуляции…
И вот, друг мой, когда он, казалось, уже наступил всеобщий, как говорили наши предки, апотеоз, старшина Сундуков как-то не по-военному замешкался, полез в карман за платком, при этом монеточка у него выпала на пол (помнишь, помнишь ту монеточку, ах Тюхин, Тюхин?..), старшина, тяжело сопя, принялся долго и кропотливо промокать свой непомерный лоб, а когда по-саперному обстоятельно завершил это дело, Христина Адамовна, матушка наша, не выдержав, выдохнула:
— Ну!..
И тут, Тюхин, он решился и, скрежетнув зубами, как танковыми траками, хрипло, но вполне отчетливо выпалил:
— Сука!
Даже если бы грянул гром с нашего немого, как довоенный киноэкран, неба, пусть даже ядерный, елки зеленые, я бы, Тюхин, вряд ли ужаснулся сильнее, чем в ту роковую минуту! Никогда в жизни не видел, чтобы цвет лица у женщины менялся бы столь мгновенно и необратимо!
— А ну… а ну-кося повтори! — прошептала Христина Адамовна, белая, как порошок, которым травят тараканов, работники общепита всего нашего необъятного, многострадального отечества.
Читать дальше