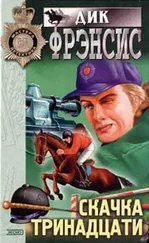Впрочем, все по порядку. Хотя бы по возможности, с соблюдением хронологии, поскольку воспоминания этих безумных дней имеют вид того самого ХБ, в котором я висел на дереве: сплошные дыры, прожоги, лакуны, как любят выражаться голоса, звучащие из мыльниц. Не далее, как вчера, я приложил к уху свою голубую, пластмассовую и вдруг, вместо шума прибоя, услышал сердитое, критическое: «Нич-чего не понимаю!»…
Ну да ладно, все-таки попробуем разобраться. Итак, Виолетточка. Помню, хорошо помню, Тюхин, как эта жучка приперлась ко мне на станцию с целой канистрой бромбахера, да еще с такими новостями, что я только крякал да, ошалело моргая, занюхивал рукавом гимнастерочки. Ну, во-первых, как и следовало ожидать, этого черта в депутатском обличии так и не шлепнули. Не выходя из камеры, он умудрился взбунтовать гарнизон, точнее сказать, некоторую, наиболее несознательную его часть, распространив с помощью Гибеля, совершенно уж ни в какие ворота не лезущую, парашу о том, Афанасий Петрович Хапов, которого мы якобы царство ему небесное! съели, был болен СПИДом!.. Напуганные моими новеллами салаги, разоружив караул, двинулись на санчасть, где под угрозой расстрела потребовали у Бесмилляева с Негожим немедленной вакцинации. Два этих олуха, тоже с перепугу, нашпиговали восставших морфием, после чего те, горланя «Вещего Олега», арестовали все наше доблестное начальство, попытались правда, безуспешно — надругаться над Христиной Адамовной, отменили погоны, ордена, воинские звания, деление на молодых, черпаков и старослужащих и, в довершение всего, провозгласили гарнизон суверенной либерально-демократической республикой Ивано-Блаженией, в честь героически погибшего в борьбе за ее свободу и независимость гражданина Блаженного И. И., нашего с тобой, Тюхин, дорогого, хранившегося (до приезда следователей из армейской прокуратуры) у Христины Адамовны в холодильнике, Ванюши. На первом же, после переворота, митинге все тот же Гибель предложил преобразовать в Пантеон Героя спецхранилище, в котором при прежнем, тоталитарном режиме от народа прятали то ли ядерные боеголовки, то ли спецтопливо. Предполагалось с воинскими почестями и салютом перенести туда священные останки для вечного хранения. Немного забегая вперед, должен сообщить тебе, друг мой, что когда холодильник вскрыли, Вани в нем, к нашему всеобщему ужасу, не обнаружилось. Надо ли говорить о том, какие леденящие кровь подозрения зароились в наших умах? Впрочем, это было уже позднее, после митинга. И даже не этого, а другого, еще более возмутительного… О!.. Тринадцать… двенадцать… одиннадцать… Спокойно, еще спокойнее!..
Помню, Тюхин, смутно, фрагментами, но помню, как, подбадривая себя нечленораздельными возгласами, бежал по штурмовой полосе. Помню то и дело возникавшие на пути препятствия: бревна, ямы с водой, заборы, колючую, натянутую на высоте 25–30 сантиметров над поверхностью, проволоку… Помню, как кольнул штыком в брюхо, непонятно как попавшего в эту повесть А. Ф. Дронова… Проглотилова помню. Выскочив из бурьяна с бутылкой бензина, он заорал: «Видал, как полыхнуло?! А еще говорили — не загорится! У нас, реалистов, все под руками горит!..» Помню, впервые заметил вдруг до чего же наши казармы походят на бараки Удельнинской психушки — такие же одинаковые, трехэтажные… Бесконечно долго я полз по-пластунски через стадион, боясь лишь одного — не пули, не мины — а одного-единственного: опоздать к… ах, если уж не к началу, то хотя бы — к шапочному разбору (шапочку-то у меня, как ты помнишь…). О, как я торопился, как я спешил, друг Тряпичкин, и, конечно же, опять… опоздал, как опаздывал всегда, во всем, всю свою бегущую за поездом жизнь, Тюхин!..
В памяти ярко запечатлелось низкое, стремящееся, как лоб старшины под фуражку, небо, похожие на морщины, поперечно багровые облака, едва ли не задевавшие за коньки крыш, за нацеленную в зенит, похожую на мужской орган, кощунственно лишенный своей самой важной, самой боевой части, межгалактическую нашу ракету. Именно с нее, с пусковой установки, забравшись на кабину тягача, и произносил свою историческую речь мой так называемый ученик Гибель.
Собственно, никакой такой речи я уже не застал. С трудом протиснувшись в передовые ряды, я, к немалому для себя неудовольствию, столкнулся буквально лицом к лицу с Рихардом Иоганновичем. Пришлось изображать бурную радость, терпеть его объятия, иудины поцелуи. Слава Богу, прозвучала фраза, заставившая нас с Ричардом Ивановичем, дружно ахнув, уставиться друг на друга. «Я вас освобожу от химеры Устава!» — самым серьезным образом заявил с импровизированной трибуны мой драгоценный ученичок. «А еще говорят — не та пошла молодежь!» — покачал головой мой неразлучный спутник. — «Нет, Тюхин, это вам не какой-нибудь там… м-ме… Вольдемар Вольфрамович, это, батенька, уже — Гиб-бель-с!..»
Читать дальше