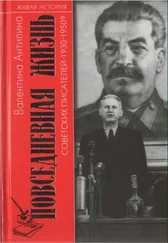Хрузов запаниковал. Он представил себе, как будут снимать раму с петель и распиливать, чтобы освободить его от деревянных оков. Это было настолько унизительно, что он, почти плача, предпринял еще одну отчаянную попытку куда-нибудь вывалиться. Но — ни туда, ни сюда! А Ледяшин был не в состоянии справиться с охватившим его сумасшедшим смехом.
Тут появились два студсоветовца, из молодцеватых старшекурсников, зарабатывавших общественные баллы себе на характеристику в аспирантуру. «Что у вас происходит? Почему человек в окне? Кто это? Женщина?!» От страха Хрузов весь сжался, уменьшился в объеме и проскользнул в комнату. Его нога попала на магнитофон (вот не повезло-то!), и пластмассовый корпус его любимого детища, купленного в складчину, треснул. С улицы неслось оправдательное бормотание Ледяшина. На него наседали правдолюбивые студсоветовцы. Впотьмах Хрузов пробрался к выключателю и включил свет. Молдаванин лежал в постели и крепко спал, ласково улыбаясь. Наверное, ему снилась зазноба.
Тот случай едва не обернулся для Хрузова выговором, потому что в то время студсовет был свирепым, как разбуженный зимой медведь. Но Ледяшин не бросал друга в беде, инстинкта самосохранения у него тогда не было, и Сергей ходил с Хрузовым на все разбирательства, соглашаясь взять половину вины на себя. К счастью, все обошлось. И молдаванина за этот «номер» они простили. Правда, он все-таки не выдержал разлуки с зазнобой и перевелся в Кишинев. Это было давно, но Федору запомнилось так, словно случилось вчера…
После обеда Хрузов приступил к доказательству далеко не очевидного математического факта, который он улавливал своим тонким профессиональным чутьем. Если все будет так, как он предполагает, можно считать, что обходной маневр в его диссертационной работе вышел на финишную прямую. Федор сел за свой стол, достал из ящика вату и заткнул уши, как он всегда делал, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы, взял ручку и кипу чистой бумаги. Мозговой штурм начался.
Углубляясь в свои выкладки, Хрузов забывал обо всем на свете. Для него не существовало больше ни Ледяшина, ни Моренова, ни Нечаева, ни Лены, ни горя, ни радости, ни голода, ни жажды, ни пустоты — ничего. Мир прекрасных симметрий стоял выше земного. В минуты творческого блуждания по этому миру Хрузов четче всего видел свои мысли, и он изумлялся им и наслаждался, как только можно насладиться идеальным…
Правда, в последнее время сосредоточиться было труднее из-за того, что его все еще преследовало туманное видение той, ускользнувшей от него прошлым летом мысли. Берясь за карандаш, он всегда старался вспомнить ее. В этот раз тоже. Но ему вновь не удалось установить с ней контакт, и тогда он, вздохнув, заставил себя переключиться на неподвижную точку.
Когда работа была в самом разгаре, чья-то властная рука легла ему на плечо, надавила на ключицу, требуя к себе внимания, возвращая к действительности. Хрузов поднял глаза. Перед ним стоял Владимир Маркович Моренов. Хрузов вытащил из ушей вату и замер, ожидая, что скажет ему его начальник, его враг.
Поведя лобовую атаку на Хрузова, Владимир Маркович пытался сохранить видимость хороших с ним отношений. Этим он как бы подчеркивал, что для него все сотрудники равны, и если он возражает против защиты Хрузовым докторской диссертации, то потому лишь, что она не удовлетворяет некоторым научным принципам, которые он проповедует как доктор наук. Поэтому-де он и поддержал Сергея Ледяшина, выступившего в защиту своего приоритета.
— Почему вы не идете в отпуск, милейший Федор Константинович? — дребезжащим голосом спросил Владимир Маркович, отпуская плечо Хрузова. — Сейчас начало октября, а у вас по графику отпуск в августе. У нас, конечно, не производство, где все жестко регламентировано, однако зачем же злоупотреблять либерализмом администрации? Да и устали вы, поди.
Его веки-шторки несколько раз опустились и поднялись, изображая недоумение.
— Я как раз собрался пойти в отпуск на той неделе. Вот, кстати, и заявление.
Хрузов выдвинул ящик стола и достал оттуда листок с заявлением на отпуск. У Моренова была сильная дальнозоркость, и он проглядел бумагу на вытянутой руке.
— Так. Замечательно. Мне подписать?
Владимир Маркович любил строить из себя незнайку в повседневных делах, не касающихся науки. Ставя свою подпись, обычно спрашивал, нужна ли она, и где именно, и следует ли рядом поставить число. Это был определенный церемониал, который неукоснительно соблюдался всеми участниками.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)