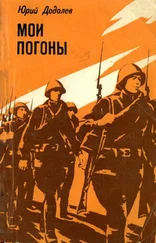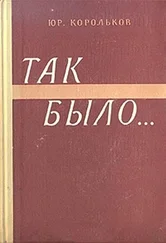В зале ожидания было душно. Я решил спать по-фронтовому — на открытом воздухе.
Я проснулся и несколько секунд соображал, где я. Над головой клубилось небо — серое, словно дым, и раскачивались редкие, похожие на тополиный пух снежинки. «Зиму привез», — подумал я. На прилавке под остроконечной крышей расставляли товар бабы в надвинутых на самые глаза платках и шалях. Звякали миски и ложки, вкусно пахло борщом. Я решил подзаправиться, но вспомнил — в кармане ни копейки: все деньги я извел и теперь надеялся только на барахло, которое лежало в тюке и корзине, ожидая своего часа. «Вот и настал этот час», — понял я и стал распаковывать тюк, чтобы вынуть шинель. Достал ее и начал шуровать в корзине. Когда корзина опустела, я сунул в нее отощавший тюк и огляделся, ища, куда бы пристроить вещи. Мой взгляд наткнулся на окно, в котором виднелась красная фуражка дежурного.
— Камеры хранения у вас нет? — спросил я.
Дежурный оторвал глаза от телеграфной ленты и равнодушно буркнул:
— Ставь тут.
Я развесил на руках барахло и двинулся на базарчик.
— Гляньте-ка, бабоньки! — раздался удивленный голос.
Со всех сторон уставились на меня, а потом все пришло в движение.
— Продаешь, что ли? — спросил все тот же удивленный голос.
— Продаю.
Переполошился базарчик, будто невесть что произошло. Оставлены без присмотра ложки и миски, укутанные платками кастрюли. Шумит базарчик, волнуется. Теребят меня бабы: одной то надо, другой — это.
— Айда, хлопец, сюда!
— Вон то покажь, цветастенькое!
— А мне вон это!
Тискают бабы огрубевшими руками ношеное-переношеное барахло. Полощутся на ветру, словно флаги, две сорочки и старые материнские платья. Подслеповатая старуха в шерстяных чулках грубой вязки мнет в кулаке полу шинели.
— Долго ли носил, хлопец?
— Два года, бабушка.
— А просишь сколько?
«Эх, дурак, не узнал у попутчика, что почем. Много спросить — обругают, а продешевить жалко».
— Сколько дадите, бабушка?
— Пятьшот, — шамкает старуха.
— Давайте!
Развязывает старуха трясущимися руками узелок на платке. Не поддается, треклятый, — хоть плачь! Зубом одним-единственным вцепилась бабка в него.
— Задешево продал, — шепчет мне ясноглазая молодка в плюшевом жакете, в грубых мужских сапогах. — Я бы дороже дала.
— Не перебивай, Грунька, — шамкает старуха. Глаза у нее слезятся, дряблые щеки дрожат. Видимо, боится, что я передумаю.
Молодка подмигивает мне. Понимаю намек, но отказать старухе не могу. Жаль расставаться с шинелью, но ничего не поделаешь — деньги нужны. Холодок в сердце вполз: сегодня шинель побоку, а завтра… «Ничего не случится», — успокаиваю я сам себя.
Старуха наконец распутала узелок. Отсчитывает деньги — рада-радехонька.
— А исподнего, хлопец, нету?
— Нету, бабушка.
Рвут бабы друг у друга старые платья — смех, обзываются — хоть милицию вызывай. Крик стоит — ушам больно. Двум бабенкам сорочки приглянулись. Одна к себе их тянет, другая — к себе.
— Мои! — горласто вопит пухленькая, словно сдоба, бабенка.
— Нет, мои! — возражает ей другая — сухощавая, при фигуре, с тонкими нитями бровей.
— Поделите, — советую я. — Их же две, и обе одинаковые.
— И то, — соглашается пухленькая. — Сколько просишь?
— Зефир. — Я набиваю цену. — Довоенный.
— Значит, износится вскорости, — говорит та, что при фигуре.
— Не износится, — возражаю я.
— Так сколько же? — спрашивает пухленькая и улыбается дружелюбно, отчего у нее на щеках обозначаются ямочки.
Я боюсь продешевить и, словно в омут бросаюсь, восклицаю:
— По сотне каждая!
Бабенки суют мне деньги и быстро-быстро отходят.
«Опять продешевил!»
Текут в карман деньги: тридцатки, десятки, пятерки. Новеньких, хрустящих бумажек мало — все больше мятые-перемятые. Карман, как нарыв, вспух. Столько денег у меня отродясь не бывало.
Мне нравится покуда все: и базарчик под остроконечной крышей, и бабы-торговки с их быстрым, сыпучим говорком, и уходящая под самый горизонт степь с одиноко стоящими на ней деревьями, и воздух — чистый, свежий, вызывающий дурман.
Четыре бабенки растянули на руках скатерть с узорами. Хороша скатерть! На белом, накрахмаленном фоне узор выбит. Присмотришься — непонятно что, а красиво. Щелкают бабенки языками, вздыхают.
— Дорогая?
Ничего в ценах не смыслю. Думал: сотня — красная цена для сорочки, а оказалось, продешевил. Сколько же спросить теперь? Сотни три, пожалуй, дадут. За узор тоже накинуть можно.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)