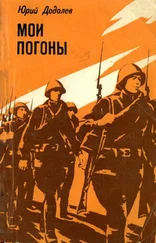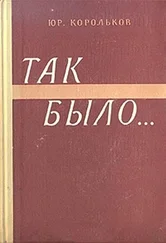— Это одно и то же. И ты и я — русские.
— Как бы не так! — мальчуган усмехается. — Я, дядька, казак!
— Казак, казак, — соглашаюсь я.
— А ты кацап. — Под носом у него вспухает пузырь.
— Пусть будет так.
Мальчуган озадачен.
— Ты кацап, — на всякий случай повторяет он.
— Кацап, — подтверждаю я.
Мальчонка вбирает в нос пузырь, и начинает нахлестывать бычка. Усмехнувшись, я продолжаю путь.
Дорога пряма, как штык. По одной стороне чернеет пашня, по другой желтеет нетронутая степь. Но это только кажется, что она нетронутая: едва заметные борозды убеждают, что по ней когда-то, скорее всего до войны, ходили тракторы. У пересекающей степь балки виден окоп, поросший высушенной солнцем и ветром травой, и углубления — не то воронки, не то вырытые пехотинцами ячейки, тоже поросшие травой. Скрученная в спираль проволока и развороченная прямым попаданием пушка дополняют этот привычный солдатскому глазу пейзаж. За балкой, в низине, хутор. Я убыстряю шаг и скоро останавливаюсь у свежевыбеленной хаты с вывеской над крыльцом: «Правление колхоза «Красный партизан».
За дверью гул. «Собрание идет», — догадываюсь я.
Неслышно раскрывается смазанная керосином дверь. Накурено — не продохнуть. Махорочный туман подбирается к окнам, тычется в мутноватые стекла и уплывает обратно. Кучерявый мужчина с иссеченным морщинами лицом, в гимнастерке со съехавшей набок пряжкой долбит стол карандашиком:
— Тихо, граждане! Не все разом.
Щуплый дед с клюкой, в белой, до бровей, щетине, будто вывалянный в пуху, в кожаных чириках, прошитых навощенным шпагатом, руку, словно первоклашка, тянет:
— Дозволь, председатель!
— Давай, Кондратьевич.
— Вот ты, Егор Егорыч, гутаришь — плант, — начинает дед. — А на трудодень сколько?
— Во, во! — гудит сход. — Сколько?
— Опять двадцать пять, — устало и безнадежно произносит кучерявый.
В глазах у него усталость. Я уже не раз видел такие глаза — у солдат после тяжелых, не прекращающихся ни днем, ни ночью боев, когда сон валит с ног, когда ступни становятся чугунными, а тело ватным, когда мозг сверлит одна мысль: не рассопливиться бы, выдюжить! На гимнастерке у Егора Егоровича орденская планка. «Звездочка у него, — отметил я, — две боевые медали и еще что-то — не то за Варшаву, не то за Кенигсберг. Он свой брат, фронтовик». В моей душе тотчас возникло доверие к председателю — то доверие, которое всегда возникало, когда я встречал фронтовиков. Я еще не познакомился с Егором Егоровичем, но уже симпатизировал ему, ибо все — тщательно выбритые щеки, старенькая, заштопанная во многих местах гимнастерка, сила и спокойствие, исходящее от его фигуры, — выдавало в нем натуру незаурядную.
Спор идет — ничего не разберешь. Махорочный чад слезу вышиб. Крепился, крепился и: «Апчхи!»
Смолк гул. Повернули чубатые головы казаки — кто такой?
— Здрасьте, — сказал я.
— Здравствуйте, — разноголосо откликнулся сход.
Егор Егорович поболтал перед носом ладошкой:
— Понасмердили, черти… Вам, извиняюсь, кого, товарищ?
Я поставил у ног корзину, сказал, стараясь говорить солидно:
— Демобилизованный я. Работой интересуюсь.
— Василь Иванович, стулу! — Председатель погасил вспыхнувшую в глазах радость.
Дядек на деревяшке, с бабьим лицом и добрыми, как у ребенка, глазами приволок стул, смахнул с него невидимую глазом пыль.
— Сидайте, товарищ!
Я подтащил стул поближе к столу и стал двигать плечом, чтобы пальто сползло, чтобы все могли увидеть мой орден и медаль. Егор Егорович заметил это и улыбнулся. Улыбка у него оказалась открытой, добродушной. В ней не было и намека на насмешку — только понимание. «Мировой он, видать, мужик», — подумал я, проникаясь к председателю еще большим доверием.
Все смотрели на меня, как на диковинку. Всех, наверное, интересовало, кто я и что я. Егор Егорович прочистил горло и спросил, ощупывая меня внимательным взглядом:
— Вы, извиняюсь, откуда, товарищ?
— Из Москвы, — ответил я.
— Откуда, откуда?
— Из Москвы, — повторил я.
Вздохнул сход разом. У одних в глазах — недоверие, у других — испуг, у третьих — любопытство. Василий Иванович к стенке прислонился — уважительно смотрел. Кондратьевич сплел на клюке скрученные подагрой пальцы и, опершись о них подбородком, спросил:
— В сам деле с Москвы?
— В самом деле.
— И документ показать могёшь?
— Пожалуйста. — Я паспорт вынул, военный билет.
Сомкнулись над столом чубатые головы.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)