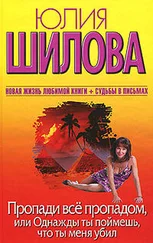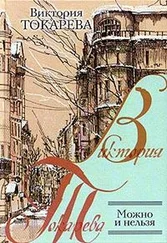Как-то пришедший навестить меня отец, зайдя в палату и узнав, что я в саду, застал меня с Тишь, которая, поздоровавшись, тенью скользнула прочь; но я почувствовал, что она его испугалась, испугалась концентрации холода и твердости, что увидела в нём, почувствовал, что и отцу она пришлась не по душе, мы никогда с ним о ней не говорили, ибо откровенность давно заимела в нём могилу, но первое впечатление о человеке он почти никогда не менял, быть может, он сразу увидел, что если сопереживанием она одаривала всех больных и немощных, то необыкновенное свечение её глаз обращено было только на меня, быть может, неприятие это было вызвано её крайне болезненной субтильностью и его убеждением, что любовь больного человека, как минимум, в десятки раз нездоровей его общего состояния, а хрупкость ее тела, возможно, напоминала ему мимолетность степных эфемер.
Будучи человеком здоровым и чрезвычайно крепким, при среднем своём росте, жилистой сухощавости, он мог пальцами гнуть стомиллиметровые гвозди, сворачивать закоксованные гайки, словно рожковым ключом, иными словами, мог вызывать разные чувства, но едва ли жалость. Очевидно, Тишь сторонилась людей, в которых болезненность отсутствовала даже в зародыше, людей холодных и жёстких, отвергших веру, но сохранивших верность себе; в каждом человеке прежде всего она искала применения переполнявшей её жалости, как и многие, способна была жалеть упавший хрустальный бокал или фарфоровую бабочку, но не металлическую кружку, жалость к металлу присуща лишь солдатам. Я сразу увидел их необратимую несовместимость — то, что из неё выплёскивалось, светилось в мир, в нём сгорало, оседая пеплом внутрь; и он знал, что суть хрупкости — ломкость, она же испугалась его чуждой рефлексии твёрдости, за которой не просматривалось живое движение, эголитарной твёрдости, отсылавшей к вечности. Однако взгляды отца и Тишь в отношении помощи дальним и ближним отнюдь не были противоположными, просто она спешила помочь со своего юга, а он, не спеша, но вовремя, со своего севера.
Здесь же, в этом саду, накануне выписки, мы долго сидели с Тишь в головокружении своём, словно занесённые на медленную, высокую карусель, сидели, как обычно, молча, способность к речи покинула нас, мы забыли о существовании языка, его назначении, и не было для нас ничего естественней немоты. Полупрозрачные руки Тишь точно оставила жизнь, они выглядели мертвей отстёгнутых протезов, и если бы не руки её, я, наверное, и не понял бы какое значение она придаёт моей выписке, при том, что мы по-прежнему оставались в одном небольшом городе, но ежедневное общение, обусловленное моей несвободой от больничных стен, могло прекратиться.
По прошествии какого-то времени, в тишине немоты, нас словно застолбила скальная неподвижность, медленная круговерть исчезла без следа, мы словно переросли людей, переросли человекосферу, что лежала меж корней и облаков, наши тела нелепыми пиками возвышались над плывущими облаками, и облака неспешно обтекали нас, казались смиренными перед нашей неожиданной высотой, а мы будто отжили, окаменев там, где замкнулся круг наших историй, похожие на кекуры, которые я увидел много лет спустя на водоразделах Яны и Индигирки, и которые она не увидит никогда.
«Френсис Крейг, или флирт с виселицей»
Это один из самых ранних серьёзных замыслов, сохранившихся ещё со школьных лет, точнее, с 10-го класса, который Дмитрий старался реализовать вплоть до ухода на службу в армию. В последующие годы он неоднократно возвращался к нему — писал, переписывал и откладывал в сторону страницы, исписанные часто вдоль и поперёк фразами и набросками рисунков, в которых угадывались те или иные персонажи повести. В сущности, всё содержание задуманной повести сводилась к главной мысли, выраженной в несколько загадочной конечной фразе о возможной для автора и невероятной для нормального обывателя ситуации, в которой драматическая и авантюрная жизнь главного персонажа повести предвосхищает его реальное рождение.
В общем, черновики убедительно свидетельствовали о том, что работа над повестью по-настоящему только начиналась. И всё-таки мы сочли возможным включить этот не завершенный, а точнее — еще не дозревший до повести текст в эту книгу, назвав его «Контуром повести». На наш взгляд, даже в таком весьма лаконичном и условном формате она поможет заинтересованному читателю понять, как в начитанном и много думающем юноше вместе с рождением в нем глубокого интереса к человеку, его земной судьбе, к драме человеческой жизни вообще рождался писатель Дмитрий Бакин, первые же рассказы которого возвели его вполне заслуженно в ранг Мастера прозы.
Читать дальше