— Какое счастье, что нам даже не приходится расставаться с нашими близкими.
Михаэль подумал: «Как нищи духом, как беспредельно трусливы люди, если они готовы скрывать от самих себя румянами и замазкой смерть своих близких».
На другой день состоялось погребение. Кладбище оказалось огромным увеселительным парком, парк был богато украшен копиями с греческих монументов, великолепными статуями из мрамора и бронзы, прудами и фонтанами. Супруги и Михаэль доехали в авто до самой могилы.
Неподалеку хоронили урну с прахом семнадцатилетней девочки. Вокруг могилы стояло семеро родственников и двенадцать позолоченных клеток с двадцатью четырьмя канарейками. Родственники с умилением прислушивались к птичьему щебету — судя по всему, они были глубоко убеждены, что и умершая в урне умиленно слушает солнечный птичий щебет. И вообще настроение у всех было совсем неплохое.
Михаэль живо представил себе похороны в Европе на деревенском кладбище — девочка умерла, она действительно мертва, и всхлипывающая крестьянка всей силой своего сердца скорбела о смерти дочери.
После нападения Японии на американскую военно-морскую базу Пирл Харбор 7 декабря 1941 года и вступления в войну Америки, в отеле, где жил Михаэль, ввели затемнение. По вечерам все собирались в большом зале и при скудном пламени свечей шепотом разговаривали о японских бомбардировщиках, хотя все отлично понимали, что ни один японский самолет не в состоянии преодолеть восемь тысяч километров и сбросить бомбы на Голливуд. Через несколько дней сидение при свечах перестало быть сенсацией. Снова зажгли полный свет.
Обитатели Голливуда словно из театральной ложи наблюдали за кровавыми победами и поражениями на европейских полях сражений. В обычной жизни ничего не изменилось. В магазинах, как и прежде, можно было купить решительно все.
Михаэль тяжело переживал те годы, когда русские, да и не одни только русские, напрасно дожидались открытия второго фронта. Американский народ тоже не понимал, почему оно откладывается с года на год. Когда союзники разгромили в Сицилии три с половиной немецких дивизии, тогда как русские в это время по-прежнему продолжали сражаться против двухсот вражеских дивизий, Михаэль задал самому себе вопрос, уж не перешли ли союзники еще до окончания войны к послевоенной политике.
Время, не заполненное подлинной жизнью — ее и не было в этом киногороде, — неслось как бесцветная, неуловимая птица. Целый месяц проходил быстрее, чем обычно проходит наполненный жизнью день. Годы прошли, а у Михаэля было такое чувству, будто он всего несколько недель живет в Голливуде.
Но в этом пустом существовании была все же светлая точка. Спасительная рука Америки сохранила жизнь Михаэлю, и в кровоточащие дни войны он вспоминал с благодарностью и не забывал ни на минуту, что значит жить в стране, которая, не в пример Франции, предоставляет неограниченную свободу всем, кого она приютила.
Михаэль писал, хотя его постоянно мучил удушливый, тропически мягкий климат, каждый день он дописывал еще несколько фраз, и это давалось ему так тяжело, как никогда прежде. Закончив предпоследнюю главу весной 1944 года, он попал в затруднительное положение — ему пришлось прекратить работу над романом, ибо роман завершался окончанием войны, и поэтому надо было сперва дождаться конца войны, чтобы правдиво изобразить отдельные подробности. Как-то, прогуливаясь по голливудскому бульвару в самом мрачном из-за длительной бездеятельности настроении, Михаэль остановился перед витриной, где были выставлены предметы мужского туалета и в центре — голубой шёлковый галстук с изображением голой, телесного цвета женщины во всю длину галстука. На ярлыке стояло: «Ручная роспись». (Несколько недель до этого он прочел в одном журнале статью о том, что в Америке есть расписанные от руки галстуки-подлинники, которые стоят одну-две тысячи долларов, а также такие, которые изготовляются в единственном экземпляре и стоят пять тысяч долларов.)
И вот, взглянув на этот галстук с голой женщиной, Михаэль вдруг вспомнил грязную улыбку человека, с которым он встретился сорок лет тому назад в Ротенбурге на Таубере. В те далёкие-далекие времена Михаэль работал маляром, он нанялся на работу к баронессе Жозефе фон Уфрендорф и подрядился соскрести старую краску со стен и потолков замка в стиле Людовика XVI, а потом вместе с другим маляром заново покрыть их краской. Баронессе Жозефе было тогда тридцать два года, она начала уже увядать — одинокая старая дева, утратившая всякую надежду, что мужчина, о котором она мечтала, когда-нибудь придет и сделает ее своей женой. И, конечно, двадцатидвухлетний красильщик немедленно влюбился в нее. В комнате лакея, которую тоже надлежало соскрести и перекрасить, висела цветная литография — толстая, обнаженная женщина и господин во фраке, занесший хлыст для удара. Лакей указал Михаэлю на непристойную литографию и, грязно улыбаясь, обронил:
Читать дальше
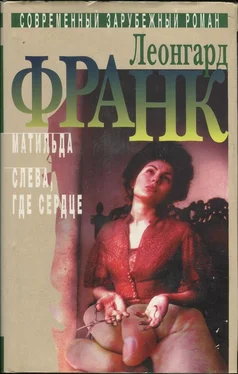



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




