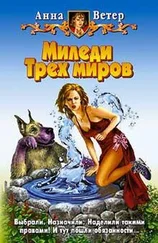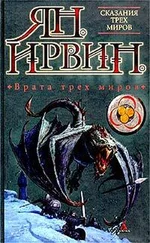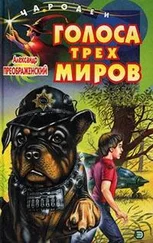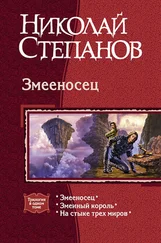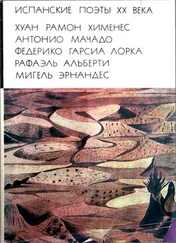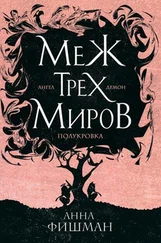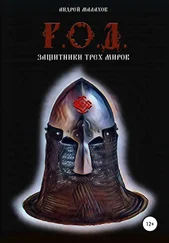И так очевидно, что любить — значит рождать! Любить, ласкать, лелеять. Лаская кончиками пальцев, он будит мертвых, и прах обретает форму того, что он задумал. Пять органов чувств и еще пять тысяч впридачу, и миллионы их оттенков на кончиках его пальцев.
…Свет оживляет в камне все тонкости вложенной в него души, причудливый калейдоскоп наших снов. И художник, с солнцем на ладони, изумленно смотрит на свой сотворенный и трепетный мир, как на ребенка.
Своеобразие Сулоаги, мне кажется, в той тревожной чуткости, с какой он сознает, любит и решает свою тему неприглядной Испании.
Попробую объяснить. Каждая страна, каждая область, каждый уголок и каждый человек наделены свойствами малопривлекательными — наряду с привлекательными, — и они-то, естественно, наиболее живучи и определяют особость данного субъекта, именно потому, что не пользуются всеобщим почтением. В Испании эта тема никогда не иссякала, поскольку не иссякает питательная среда (мадридские газетенки, кубинские попугайчики, краски, утварь, мебель, эти цоколи и фасады, эти неприступные лица, стойкие в своей черствости…).
Все это Сулоага выносит на первый план и тем самым открывает нам исконное — жуткое, ненавистное, но такое достоверное! — мурло Испании.
От образа к образу Сулоага движется к вершине. С каждым шагом его вековечная Испания все явственней становится сегодняшней. И его сюжеты снуют по улицам денно и нощно.
Три больших художника — три наши ипостаси. Англада — наряд, Соролья — нагота, Сулоага — нутро.
От Вальядолида до Мадрида на щитах холстов и картонов сменяют одна другую белые маски, яркие или тусклые, с извечной и нынешней бесцеремонностью сверля скважинами глаз синеву снегов, воды и земли и всасывая ее вместе с солнцем или звездами.
По ту сторону холстов чуждые им камни и травы, кастильская река за частоколом тополей, голые холмы от Вальядолида до Паленсии, дистиллированный воздух, в котором витает Хорхе Гильен, земная живность — люди, птицы, мужчины, женщины. По другую сторону Гвадаррамы, столь же чуждые белым маскам, мы со своими лирами, кистями, перьями. Глубокая пропасть.
Кое-кто с любопытством подходит к холсту и заглядывает в отверстие глаза — и видит художницу, босую и хмурую, на речном берегу. Она кладет на глаза зеленые листья, брызгает водой в солнце, тиной в луну. Убегает. Возвращается. Внезапно ее глаза становятся глазами маски и вперяются в наши. Маска смотрит, смотрим и мы. Не знаем, на кого она смотрит. Мы вглядываемся в нее. Она — в нас.
Радостны и беззаботны тона этого испанского Бенжамена, ушедшего в свои весенние миражи, все еще замутненные межсезоньем, но такого свежего и крепкого. Защищенный от «суемудрия» непролазной вязью кровеносных жил, он упивается радужными абстракциями (уже ненасытно, но все еще следуя строгим архитектурным секретам ясности), изображая влаго- и газообразно цветы, женщин, небо, воду, рыб и детей.
Этот ламанчец (почти ребенок) весь погружен, как в солнечное море, в изначальную стихию художника — чувственность. Делать то, что хочется и все, что вздумается, — и есть то, что делают, и разражаются слезами, топают ногами и брыкаются — да еще как! — когда им не дают это делать, настоящие художники, то есть вечные дети. И в этой чувственной всеядности Бенхамин Паленсиа нацелен на синтез. Чувственность и обольщение. Тут нужны другие инструменты и другие руки, не так ли? И пусть еще тужится неуемный художник, еще трясет своей лесной шевелюрой дикого фавна, пусть его детская душа еще шарахается от нагой красоты. Пусть его гонит ненасытное неистовство. Пусть он, упруго подвешенный к собственному зениту, вслепую болтается на шальном ветру неустанной одержимости, то и дело взлетая на вершину страсти.
Но Бенхамин Паленсиа уже чувствует на лице отсвет иной зари (второй, которую видят лишь избранные и свет которой не обернется лаковым кармином). И наступает миг, когда простой цветок, этот вечный искуситель и камертон красоты, завораживает навсегда, и художник застывает перед его безыскусностью, как живое знамя любви, счастья и света.
Смуглый, маленький, ладный, как орешек миндаля, приплюснутый горизонталью модных подплечиков, пузырчатыми штанами и ножницами расставленных ног, Франсиско Борес, внучатый наследник Росалеса, преодолел болотный тропический чад застойного испанского романтизма и, кажется, освежил его своей веселой иронией и серьезностью, питомцами современной школы жизнелюбия. «Художник от бога, — говорит судьба, — смотри и пиши». И он пишет и пишет, кончиками пальцев вместо кисти, бессонно переплывая время, рекой в будущее. Он выписывает чувственные кривые раздвоенных мелодий, которые подобно сладострастию соединяют любовь и наслаждение.
Читать дальше