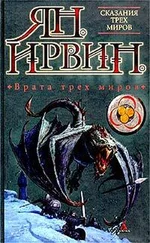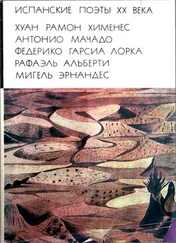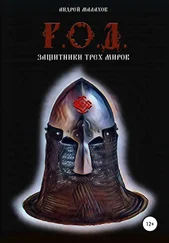Не знаю, что за связь, как у перчатки с рукой, у пальца с ногтем, видится мне между этими двумя словами: Томас Меабе — и двумя другими: склеп и гроб, такими же парными, как имя и фамилия. Кажется, что Томаса Меабе во имя смерти нарекли ее именем, что умирал он мертворожденным. И сам он кажется воплощенной смертью без прикрас, повседневной, пунктуальной, как день и ночь, современной смертью. Она безнадежней и горше, чем у романтиков. Это смерть смертей.
Поднимаю глаза от недописанной страницы, от ее темной тоски с белыми полями и вижу безлюдные проводы на перекрестке — одинокий гроб и четыре носильщика. Процессия тускнеет, тает, как неизданная книга, и остается лишь зимнее поле, ровное, холодное, бескровное, где нет уже Томаса Меабе, ни живого, ни мертвого, и нет ни друга с книгой у безответной двери, ни даже заблудшей ласточки.
Он кувыркается на трапеции, не подвешенной нигде. На своих немыслимых качелях он то выбрасывает ноги, царапая землю, то раскручивается пружиной головокружительного коловращения, доводя зрителей до обморока, — и вдруг взлетает пятками в зенит.
Он никогда не подражает. Он берет где попало канат, шест, пестрые флажки и, пользуясь этим, как порохом, — пропахшим дымящей кровью, — для бенгальских огней, шутих и черного остова потешной крепости, вооружает свой неподражаемый, диковинный и безвредный аттракцион.
На улице, уже просто фланируя, циркач рядится святошей, чудаком, героем, шарлатаном. Кем и чем угодно, в нем ото всех понемногу. Сущий Лукреций: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».
И лишь одно грозит тому кто довольствуется всем, — это опасность утратить ту единственную роскошь, что дорогого стоит: в чем-то нуждаться.
К нему приходишь, как в заветный уголок, где можно передохнуть. Видно море, и синий день так незыблем, будто никогда не кончится.
Человек он — или сосна, цепко вросшая в землю, встречает нас птичьими голосами? И вдруг мы перестаем понимать — такова его природа, — существует ли он или придуман великим художником, фанатиком реализма. Реальность двоится.
Чистота и поэзия здесь дарят жизни надежность и красоту, чудесно совмещенные в заказнике свободы. Словно обе они — две стороны золотой медали — стали сплавом мира и здоровья.
Глотнув свежей воды из родника под сосной и сорвав цветок на память, убежденные, что здесь гнездится Минерва, мы идем дальше, весело рассуждая, что природа иногда любит всю себя проявить в каком-нибудь образчике или эталоне.
А эталон природной самодостаточности остается, лучший образец естественности — человек-сосна Грегорио Мараньон.
Давняя ночь с огромной луной цвета зари (третий час, Мадрид, скамейка на улице Веласкеса). Фернандо Вильялон, не отводя круглого прокопченного лица от круглой зелено-сизой (о, севильские маслины!) луны, впивается взглядом в это восточное зеркало, где явно серебрится вся его Севилья, и выносит вердикт: «Пора приступить к поливу». Теософ, скотовод и поэт толкутся в тесноте его массивной фигуры. И холодная улыбка раздвигает его узкий рот.
Эта полуулыбка вскользь, неохотная и почти скептическая, возникает, как солнечный отблеск на стекле незнакомого окна. Но это не та улыбка, что просится наружу, и он гонит ее прикрытым зевком, глухим хмыканьем, отеческой воркотней, словно муху. (Далека сейчас та светлая мадридская ночь, пустует, наверно, та скамейка; Фернандо Вильялон один-одинешенек на своем востоке.) Он не знает, уходить или нет. (Четверть третьего.) Трудно сдвинуться с места. (Три.) Стремительный, необычно и неуверенно быстрый рост его поэтического древа сделал его неустойчивым, не готовым к переменам ритма. (Полчетвертого.) Его грудная клетка вроде короба, кое-как набитого наспех и до краев, который валится, если сдвинуть с места, и рассыпается. (Четыре.) Словно его внутренние органы держатся каким-то чудом не на своих местах, мешая друг другу.
Пора его сдвинуть. (Март 1930. Я здесь, в его прекрасной Севилье, золотой и холодной.) А Фернандо Вильялон, славный человек и хороший поэт, не вернется уже никогда.
Вставая, он двигался, как висельник, трудно поворачиваясь, словно сломанный флюгер, кое-как ввинченный в пол.
Когда я увидел его («Помбо», зимний пар, банкетный зал в тонких запахах кошачьей мочи и дамский обезьянник в проветренном пространстве зеркал), он показался мне неподдельно искусственным, собранным из каменной соли, загипсованного картона, стеклянных глаз и колючей головы копченого тунца. Запечатанная тройной печатью, засургученная, заспиртованная в своем собственном соку, его законсервированная жизненность не соприкасалась с окружающим. Воротничок, галстук, костюм присутствовали отдельно, не способствуя общению. Он отсутствовал.
Читать дальше