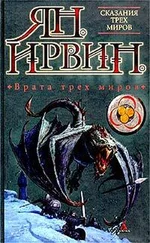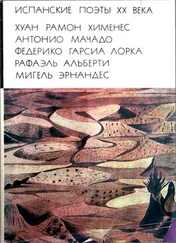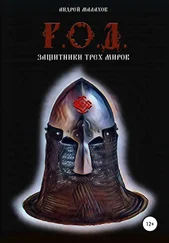Ему приходится прибегать к подручным средствам общения. Набор незатейливый и общепринятый. Окаменелые сласти и восковые деликатесы, скипидар и сдоба, бедра чумазой потаскушки и щелок, и все тому подобное, что окружает и кружит, как нескончаемый маскарад. Порождение мастерской, почти муляж, удушенный, бездыханный, отполированный витриной, он уже сам эта витрина, единственная и очередная в музее археологии.
Ему нет места на бархатном диване, не тянет подать ему руку. Он вынужден ускользать, укрываться в своем крикливом театре, своем предместье с иными фонарями, струнами и циферблатами.
На декорациях испанского Страшного суда, которые он на ходу, привычно шагая не в ногу, развертывает перед нами, наши эксгумированные достоинства оживают самым непредвиденным и самым неприглядным образом. Он ведет или возвращает нас в изначальный студенистый мир, забальзамированный магическими маслами его сумрачной и гармоничной живописи, медленно приучая к непривычному. Нас парализует его честная кисть, нас завораживает его погружение в отбросы; гниение он делает для нас зрелищем, не слишком опасным. Это мощное, подтвержденное потерей аппетита, эстетическое гниение, где даже кишащие мириады цветных червей навсегда застыли в своем копошении, как россыпи самоцветов.
Уже зеленеет весна и на влажных пустошах, где тополя неугомонно и взволнованно плещут воскресшей листвой,
смех и бренчанье — пляшут сельчане.
В нежной голубизне, над вереницами тополей, бегут и тают тугие белые облака. Ива над заводью струит плакучие ветви, уже желтовато-зеленые, в озерную рябь, с которой играет, то покачиваясь, как лодка, с попеременно поднятым крылом, то закручивая при взлете пестрый фонтанчик, береговая ласточка.
Неподалеку чернеет силуэт — юноша в приталенном сюртуке и цилиндре бредет берегом, заложив руки за спину, рассеянный и раздраженный. На миг он растерянно озирает гулянку глазами мировой скорби.
…Стихло бренчанье — смолкли сельчане, —
и, завидев его, девушки теснятся и перешептываются.
Но он быстро уходит, чернея на солнце, которое тускнеет под стеклянным абажуром предвечерья, уже клонясь к закату. Он идет, волоча длинную тень и, опустив голову, грустно улыбается своей оплаканной юности.
Приближаясь к нему, словно входишь в узкое, длинное подземелье бурого кирпича, душное и гулкое. Где-то рядом кипарис, заступ и могила. И воздух, проникающий снаружи, из мира пчел и гераней, отдает запахом катакомбной церкви, затхлой и отверженной.
Есть в его независимом мистицизме что-то от долгого умирания и от гражданской панихиды? Не знаю. Но есть в этом дочерна прокаленном человеке что-то от преображенной земли, корней и неба.
И потому есть в нем — не правда ли? — что-то от первого человека и последнего, от переполненного до краев и покинутого жизнью. Он возникал и повторялся многократно, среди прочих — в ионическом облике, с неразлучным вороном, и в готическом, с достопамятной совой.
Он определился для меня во сне. Не знаю, что произошло во мне, давно влюбленном в его тонкую и невесомую живопись — в его цвет, линию, чуткость, в его иронию — и почему было нужно, чтобы раскрепощенный дух в расслабленном теле выбрал его как первого из первых. И с утренним пробуждением Пикассо утвердился во мне, на вершине сознания, простите высокопарность, и в водовороте сердца (на другом полюсе?) предчувствием нового завета — с той юношеской силой и гипнотической властью, какой изо всех художников, что были до него и будут после, обладает один Эль Греко.
Они одной природы. Ни до, ни после Эль Греко никто из великих, ни Ван Гог, ни Сезанн не достигали такой орлиной окрыленности духа, как эти двое. Думаю, что все оттенки кубизма — первым кубистом был Эль Греко — сводятся к некой квадратуре круга, к попытке наощупь изменить ход мысли, сделать мысль искусством, покончить с гладкой поверхностью, смыв ее зыбкой кривизной прилива, одним прыжком перескочить от невнятных детских догадок к неисчерпаемым древним загадкам. К иным ритмам, той гармонии прямизны и кривизны, что выявит новую потайную структуру жизни, сложней и неожиданней прежней. Волновую природу мира.
Вправе ли мы сказать, что кубизм анатомирует душу? Отчетливость телесной оболочки достигла вершины совершенства в том искусстве, которое несколько манерно называют классическим (Греция, Возрождение), — и вот возникает бесплотность; утонченная чувственность искривлений, которые домогаются нашей обновленной души, ими же разбуженной. Притягательная свежесть, веселая расточительность кубизма — вскормленного французскими импрессионистами первенца — залог неиссякаемых вдохновений, захватывающая тайна. Это как сон наяву — и пробуждение радостно.
Читать дальше