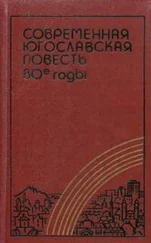— Легкие-прелегкие, — с веселым удивлением сказал Колоннелло, подойдя к Пипе и показывая опанки на своих тощих кривых ногах, вдруг почувствовав себя крепким и жилистым. Это ощущение создавалось непривычной легкостью обуви — он выставлял то одну, то другую ногу, поднимал их, похлопывая ладонью по подошве, точно проверяя подковы на копытах. И только сейчас люди заметили! — а может, это только показалось — косоглазие, делавшее лицо полковника придурковатым. И почему-то это вызвало прилив злобы.
— Махнулись мы, махнулись, вот как, товарищи, спросите у него! — с ходу заторопился Чоле, опережая вопросы и намекая, что обмен был добровольным и не было бесчестного вымогательства (как они думали).
— На каком же языке ты с ним договаривался, а? — с издевкой спросил Павал.
— Кулаком, а не языком, — со злобой уточнил Лука, и его глаза сверкнули молнией, а подбородок выдвинулся вперед.
Пипе чуть-чуть сощурился, ожидая, как повернется дело. Под черными ресницами блеснули фиолетово-серебряные капли расплавленного свинца. (Цвет глаз у него постоянно изменялся, как стеклышки в калейдоскопе.) Он молчал, будто каменное изваяние, но всем было понятно, что он хотел сказать и что вкладывал в их сознание: в любом случае его слово — решающее и последнее; он еще сильнее прищурил глаза, однако молчал, лишь уголок рта слева чуть заметно опустился, что придало его лицу выражение сомнения и насмешки. (Делал он это умело, научившись у одного медовацкого мудреца, и всякий раз пользовался этим в сложной ситуации.)
И правда, Чоле занервничал.
— Шли мы купаться… Ну, потом я обул сапоги, он — опанки. Он веселый, ничего не говорит, я веселый, ничего не говорю, не к чему много болтать, чтобы понять друг друга. Да, Пипе? Ты ведь сам меня учил. Разве не так? — зачастил он.
Огонь злобы и возмущения, вызванный дурацкими объяснениями Чоле, вспыхнул, точно сухой хворост, все схватились за оружие, но тут, как раз вовремя, часовой со скалы закричал:
— Марко идет!
Теперь не до Чоле, не до сапог — все было забыто, как вчерашний день и прошлогодний снег. Да и сам Чоле, захваченный важной новостью, во все глаза глядел с утеса.
Марко шел с трудом. Два огромных мешка явно резали ему плечи, одной рукой он придерживал мешок, сползавший на шею, а другой загребал, словно веслом. Кряхтел, красный, раздувшийся, как заряженная пушка. Видать, и выпил немало — он покачивался и позевывал, Брел медленно, нога за ногу заплеталась. Часто останавливался передохнуть, крупные капли пота стекали с подбородка, блестевшего от жира — следа недавнего обжорства.
Он улыбался во весь рот, причмокивал толстыми губами и походил на объевшегося сметаной кота или на ярмарочного торговца, нагруженного подарками. Если б не горы и не тяжелые мешки, он бы запел. Заметив на вершине скалы людей, Марко закричал:
— Не хочет ли кто помочь?
Никто не шевельнулся.
— Тогда буду сидеть, пока не съем весь хлеб и солонину, — пригрозил он и уселся на плоский камень.
Чоле и Лука в страхе переглянулись. С него станет, этот обжора все может. Бегом кинулись они в горы: чтоб не успел проглотить ни кусочка. Чоле в полковничьих сапогах казалось, что рассвирепевшие черти схватили его за ноги острыми клещами, прижимают в адской кузнице раскаленное железо к его воспаленным глазам и ворошат кочергой в голове. Он стиснул зубы (и в мозгу зашипело). Еще крепче стиснул зубы: не давать повода этим зубоскалам злорадствовать, терпеть, пока ноги не привыкнут.
Добрались до Марко, в сердцах чуть не силой выхватили мешки, словно наказывали его за непростительную сытость, и отправились обратно.
Теперь Марко шел налегке. Пусть! Пусть потаскают! Быстро прибежали! Как на блины! Знают, с кем дело имеют! Не для себя же он нес! Когда он обозлится, может съесть все до последней крошки, особенно если знает, что кто-то хочет его провести, как воробья на мякине, воспользоваться его страданиями. И наоборот, когда он видит душевное отношение и доброжелательность, тогда, уж поверьте, он расшибется в лепешку. Вот и сейчас, Марко, брось придирки, пересолишь, и кошке не годится. Пусть разглядывают тебя с ног до головы, а ты знай свое дело и в душе можешь порадоваться, как они перед тобой лебезят. Чего ты ждешь? Не будет признания, не будет похвалы, ведь и от тебя этого не дождешься. Не хвастай перед голодным, посмейся над ним в душе, если он наглец, а сам держись с достоинством, как хозяин доброго коня (если не ты конь!); это пройдет, как и голод.
Читать дальше