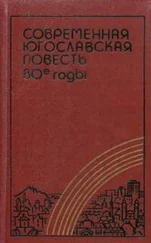«Совершенно неотесанный», — подумал поп, молча поклонился с видом оскорбленного достоинства, высоко вскинул голову, точно певец, которого больше не вызывают, и, взмахнув полами пальто, нырнул в дверь, ведущую на лестницу.
По улицам Медоваца, где, несмотря на военное время, с раннего утра болтался всякий люд и проходимцы, поп спешил домой. Нет, он не семенил, он ступал широкими шажищами и топал, будто с каждым шагом перескакивал через ручей. В душе у него угнездился непонятный страх и стыд из-за двойственности своего положения — должностного и человеческого. Короче, он был подвешен, точно балкон, — между небом и землей. Лицо его покраснело от возмущения, будто у проказника ученика, битого розгой. «За что меня мучают, пречистая дева и все святые?! Кому я служу? Будь я проклят, если уже не проклят». Он клял свою горькую судьбу и тяжкие поручения, которые должен был исполнять и от которых никуда не мог спрятаться. Он влетел в дом распаленным и бурлящим вихрем. Бормоча проклятия, ввалился в переднюю и закричал в ужасе: — Что это?
Он увидел невозмутимого, сонного обжору Марко, обжору из обжор, за столом в кухне — тот с урчанием жевал, с чавканьем перемалывая остатки вчерашнего мяса и капусты. Перед ним стоял закопченный жирный горшок.
Свернулся, как червяк от укола. Деревенщина, антихрист, ишь ты, снял башмаки, а от влажных шерстяных носков исходило зловоние прели и гнили, будто под опенками у него закипел перестоявшийся густой виноградный сок, к тому же это зловоние смешивалось с запахом подгорелой капусты и жгло, жгло, как купорос!
— Ты… еще жрешь?! — завопил поп, будто его ударили в больное место.
— Я и рад бы не есть, да не могу! — спокойно проворчал Марко и лениво пояснил, не переставая жевать: — Сам понимаешь, должен я хоть немного набить брюхо впрок. У наших со вчерашнего утра крошки во рту не было, заклинаю тебя всем на свете! Что было, все Колунел сожрал. А у нас, поп, в утробе совсем пусто, как бог свят… Стой, куда же ты?
Но поп, словно на перебитых ногах, в полуобморочном состоянии, в тихой истерике потащился в свою комнату.
— Не хочешь со мной разговаривать, так! — запричитал Марко с пьяной отрыжкой. — Не удостаиваешь, попик, разговором, так! Я для тебя голодранец, так! — бормотал он, а сам уже принялся за свиную ножку.
Дни стояли теплые, солнечные, а в надежде и ожидании они казались еще светлее. Голод забывался в этом сказочном волшебстве, украшавшем голую, суровую и ранящую душу правду и снимавшем муку и усталость. Третий день торчал Марко в Медоваце с боевым заданием (если, конечно, его не ухлопали и не затравили как собаку), третий день, как из нежной фиалки надежды прорастала дикая трава сомнения и прямого неверия в безумный план Пипе.
После полудня леса окутывала синеватая, похожая на пороховой дым осенняя мгла, она застилала горизонт, а потом поднималась в струящееся небо, наполняя душу непонятным ощущением потери, тихого томления, глубокой радости или близкой надежды. Мгла отлетала, как привидение, а с ней и теплящаяся надежда. Партизан охватывало сперва тупое бесчувствие, а затем, с наступлением сумерек, возвращалась щемящая тоска и пустота вместе с неотвратимыми тенями смерти.
Пока не рассеивался туман, часовой уходил далеко от хлева, иной раз на самую кручу, откуда можно было разглядеть козью тропу, по которой, если он жив, должен был вернуться Марко. Но с первой звездой часовой возвращался, подгоняемый одиночеством и пустотой горизонта.
К утру в них вновь загоралась надежда, как от чудодейственной могучей молнии. Ели жидкую кукурузную кашу, пили воду из родника, прятавшегося во мхах. Долог день, хоть через плечо его перекидывай, и тяжек, как свинец. Однажды прибежал на коротких, как у таксы, ногах, по-ребячески гордый и радостный Лука, захлебываясь от счастья: из полковничьей двустволки он пристрелил куропатку!
Все горячо принялись за дело.
Сначала сгрудились возле куропатки, как древнее племя вокруг жертвенного камня. Потом ощипали ее, разделали, насадили на вертел, повесили над огнем и стали аккуратно поворачивать, точно быка. Сидя на корточках, помешивали огонь, давали советы, увлажняли шершавую синеватую кожицу тряпкой, смоченной в соленой воде, облизывали пальцы, исходя слюной, и вдруг, когда кожица натянулась и покрылась коричневато-золотистым румянцем, над их головами послышался плаксивый, раздражающий писк.
— Святое небо, как я голоден! — простонал полковник.
Читать дальше