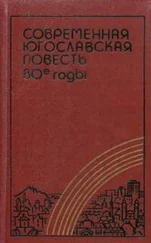Боже, о чем он думает? Что ему приходит в голову на этой ужасной войне, при полном самоотречении, в таком бессмысленном положении, в такой страшной ситуации — бандит с землистым лицом и орлиными глазами, ведущий его в ад? Боже, весь мир — сплошная глупость! Клетка безумного! Неужели он когда-нибудь снова станет убаюкивать себя слабоумным поэтическим вдохновением, жить в нереальном, потерянном мире, неужели он снова впадет в то бессмысленное, обманчивое состояние, спрячется в темный, мертвый Ноев ковчег? А ведь отвращение уже начало его глодать — кожа напоминает изъеденный гусеницей лист. Господи, помоги! Когда от красоты ничего не остается, приходится следить за кожей. Он почувствовал какой-то новый, удивительный прилив сил, стремление к маленьким плотским радостям.
И Колоннелло решительно спускается к ручью, с трудом снимает сапоги, носки, стягивает серо-зеленую блузу, черную рубашку и зябко, весело, дрожа и стуча зубами, брызгает на себя водой, взвизгивая и бормоча что-то от прохлады и удовольствия. Он растирается, почесывается, плещется и похлопывает себя пальцами, будто утка короткими крылышками.
Чоле смотрел на него с изумлением. Ну и ну, как влюбленный зайчишка. Разыгрался, распрыгался старикашка, чисто пескарь в горшке. Голенькое божье создание. Тварь фашистская! Чуть пятнистый от старости, но прилично упитанный. Уже не зеленый огурчик, но еще и не старый мерин. Раскормленный, ухоженный. Только вот темный живот натянут на ребра, как барабан, и пупок вздутый, такой он видел в Медоваце у негритят в цирке. Наверно, разбух после той куропатки, которую он проглотил, как жабу. Бедняга, прозрачная, тонкая кожа с красными жилками. Как красные буквы на желтоватом полотенце над кухонным столом у братовой богатейки жены: на мельнице кофе варится, у хорошей жены дом не валится! Должно быть, сладкая пища для наших неизбалованных вшей. Дошел до ручки. Гляди! Оса!
— Ш-ш-ш! — зашипел Чоле, а Колоннелло замер с выпученными от страха глазами, увидя перед собой морду, точно у готового к прыжку тигра.
Чоле ловко и мягко прыгнул, взмахнул, как саблей, рукой и полоснул ребром ладони по шее Колоннелло — оса зажужжала у него в кулаке. Он остервенело сжал кулак, а затем раскрыл его.
— Оса! Оса! — гордо и радостно указал он на раздавленное насекомое, а Колоннелло вздохнул с глубоким облегчением. — От меня не уйдешь! Что ко мне в руки попало, то пропало. Давай, давай, побарахтайся еще немного, и пора обратно.
Чоле улыбнулся, подбадривая старика чуть виноватой и извиняющейся улыбкой, неловко показывая глазами — жаль, мол, что он его не понимает, отвернулся и — увидел сапоги. В сердце у него кольнуло. «Как бы их ухватить, пока зайчик намывается?» Посмотреть, подойдут ли. Можно будет взглянуть на себя в тихую воду, как в зеркало. А Колоннелло пусть обует опанки.
Он еще раз взглянул на Колоннелло: тот сидел посреди ручья на валуне и мыл ноги. Чоле не спеша поднял сапоги за голенища. Колоннелло занимался своим делом. «Я вспомню добром этого тихого зайчишку», — подумал Чоле. Он наверняка будет кротким и не станет злиться или кричать из-за какой-то несчастной обувки. А распетушится — Чоле вернет сапоги, и делу конец. Посмотрим, чем все обернется!
Еще издали все приметили странную, гусиную походку Чоле, подивились они и нетвердо ступающему, подскакивающему, как непоседливый ребенок, Колоннелло. Глаз был наметанный — «господин сменил обувь!». Все сбежались и обступили их, точно встречали неизвестных, но заведомо добрых людей.
Колоннелло обвязал ремешки опанок вокруг штанов, словно древний римлянин, и шагал, то как аист, медленно, согнув колени и широко расставляя ноги, то семенил, подскакивая, как воробей. Он выглядел веселым и радостным, точно выпущенный из заключения узник или солдат, возвращающийся с военной службы.
Все усилия Чоле казаться спокойным и уверенным были напрасны. На лице отражалась скорее острая боль от стиснутых мозолей — пострашней, чем игла в мозгу, — нежели бахвальство. Сапоги, дьявол бы их побрал, жали так, что глаза вылезали из орбит, и перед ним то и дело вспыхивал свет, подобно зарницам из черного облака. Пальцы на ногах подогнулись, будто их свело судорогой, после того как он босиком карабкался по скользкой коре гранатового дерева. Но эта нестерпимая боль, железной колодкой сжимавшая ноги, на лице у него превращалась в такую покорную улыбку, какой могли позавидовать медовацкие монахи. Сапоги, сапоги! Вся душа из-за вас выболела, истерзалась, и не очиститься ей от скверны. Будь проклят тот час, когда он на них позарился, завидев на детских ножонках старика. Уже по одному этому фашисты проиграют войну в наших лесах: нет у них приличного обмундирования — удобной растоптанной обуви, пригодной для быстрой ходьбы по скалам! Но он не допустит, чтобы друзья насмехались и над ним подтрунивали. Не видать им на его лице и тени муки, и не узнают они о его нервах, «нервозных и нервических»! С этой минуты прочь всякая боль, и если не выдержит, то, как бог свят, ходить ему босиком. Уж такая у него сила воли.
Читать дальше