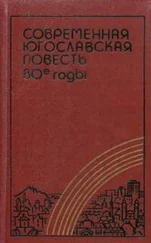— Это горный воздух! — пояснил Пипе. — Готово у вас?
Люди оцепенели.
— Я сказал — человек голоден! — пояснил Пипе.
— Ах, господи боже, он голоден! — сплюнул Лука, и вертел задрожал у него в руке.
— Чего ты ждешь? Дай ему куропатку! — приказал Пипе резким тоном. — Пусть полижет. Человек привык есть жирно и сладко. Для него это и обед, и ужин. Пусть потом не говорит, что его тут морили голодом. Несчастная куропатка, не на что глядеть, кожа да кости. Как раз по нему. Тебе ее и на зуб не хватит.
— Чтоб она ему поперек горла стала, — пробормотал Лука, и глаза его сами заплакали по жареной куропатке, но он ткнул ее в руку полковнику, словно оплел его обжигающим кнутом.
Медленно, веером люди отошли от Колоннелло, посмеиваясь над своим маленьким несчастьем и чужим счастьем, будто промахнулись, играя в мяч.
Колоннелло прежде всего сделал попытку угостить Пипе. Но тот только презрительно растянул губы. Тогда Колоннелло у всех на глазах принялся обгладывать куропатку, высосал косточки, без стеснения облизнулся — проделал все это мгновенно, будто на спор. Улыбнулся блаженно, вежливо и благодарно, точно совершил преступление, которое ему простили.
Пипе был поражен. Удивительный тип! Другой бы ударил его, что ли (в знак признательности!), и это было бы просто и естественно. Конечно, не годится угощать человека, а потом укорять, что он принял угощение. Лицемер с ревностью смотрит на чужую простоту. Все выглядело так, словно Колоннелло уже свыкся с ними, держался он свободнее, с какой-то доверчивой безоглядностью. Пипе даже ему завидовал, потому что сам не умел жить без оглядки.
— Может, нарвать травы на салат, а, Пипе? — со злобой предложил Чоле под осторожный смех окружающих.
— Прекрасный день, — прищурился Пипе, глядя в небо, и обратился к Колоннелло: — Не желаете ли искупаться?
— Неплохо бы.
— Вот и отлично, — кивнул Пипе. — Чоле, отведи-ка его к ручью и смотри, чтоб у него уши не заложило и сапоги не приросли к ногам. И береги, не то он может остаться босиком!
Никто не смеялся.
И Пипе был не в духе. Он не спеша пошел прогуляться по серым камням. Павал, вооруженный автоматом, сопровождал его.
Чоле проследил за ними неподвижным, мрачным взглядом. Обязательно напомнит про сапоги, чтобы щелкнуть по носу. Жаль, что он не так скор на язык, как этот Пипурина, — пока он раскроет рот, глядь, птичка уж улетела, а у него на зубах остался только ее помет.
— Ступай, — зло дернул он Колоннелло за рукав. — Ступай, тебе полезно выкупаться. Заблагоухаешь, как дерьмо на дожде.
Партизаны громко шутили и весело смеялись им вслед, пока они не скрылись в лесу.
На западном склоне рядами темнели сосны, поседевшей рыжиной пестрели клены, белели ясени, трепетным огнем горели листья осин, а потом стали попадаться ели с золотящимися на солнце султанами в прохладном окружении темно-зеленого подлеска. Каменистая тропинка поблескивала. Они спускались в ущелье, спуск становился все круче, под ногами осыпались комочки земли.
Колоннелло с трудом удерживал равновесие, хватался за камни, то подбадривая себя громкими восклицаниями, словно рисовался перед девушкой, то вдруг становясь серьезным, начинал спускаться со всяческими предосторожностями.
Этот мир устроен в виде лестницы — кто-то поднимается вверх, кто-то спускается вниз. Трудно спускаться, но трудно и подниматься, ведь, по закону тяготения, силы тяжести никто не может преодолеть.
Чоле внимательно наблюдал за Колоннелло. Он боялся, как бы итальянец не сорвался, не поскользнулся, не упал и не поранился об острые камни или не сломал ногу, что было бы совсем худо — тогда пришлось бы тащить старика на своем горбу, тащить в гору, надрываясь, как навьюченный осел, а под конец выслушивать упреки Пипе. Поэтому Чоле то и дело останавливался, давая Колоннелло отдохнуть, и взглядом измерял головокружительную глубину теснины. А у Колоннелло расширилась грудь, раскрылись глаза, он спешил, словно в зачарованный и неведомый край.
Стремительный горный поток до корней разрезал ряды елей, а красную землю — до голого камня; устремляясь в провал, быстрая зеленоватая вода гремела по белым валунам. Яркое осеннее солнце драгоценным жемчугом искрилось в воде. Ажурными каскадами ниспадала вода в каменные раковины, переливаясь, как из пригоршни в пригоршню, под равномерный шум деревьев неслась в долину, в ручей, и исчезала вместе с ним неведомо где. Боже, какая красота! Будто смарагдовое ожерелье, которое он подарил Матильде в день серебряной свадьбы. Nozze d’argento! Серебряная свадьба! Все так живо, кроме лица Матильды — оно растопилось, словно было из воска, в памяти отпечаталась только ее тень, ее дух. А вот все другое осталось. Festa di famiglia. Семейное торжество. Старинная красная вилла, гости в смокингах, неизменное жабо, шампанское, тосты, звон хрустальных бокалов при желтом свете фонариков, выглядывающих из гроздей муската дедовских виноградников, длинный каменный стол, гирлянды и иллюминация, заказные конфеты с миндалем, заказной торт, концерт, менуэт Боккерини, танцы и курьер с подарком от дуче! Какая помпа, шик, статьи в газетах, присутствие епископа, бенгальские огни! А под конец ее измученное, постаревшее лицо и вздох облегчения — кто дает праздник, тот им не наслаждается. Всю жизнь она незримо страдала, всю жизнь отравляла веселье другим. Вот и тогда так же. Ее ответом на все это торжество, блеск, признание, почести был только этот лакейский вздох и долгое молчание, потребность в покое — бесконечное преддверие смерти.
Читать дальше