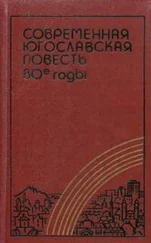На отполированном пепельно-сером мраморе раздался равномерный скрип неразношенных туфель. Это портье Ганс считал свои шаги. Десять между боковыми стенами. Иногда, не переставая считать шаги, он всматривался в глубь коридора. Отсюда до конца было бы приблизительно шагов сто пятьдесят. Белый коридор ужасно длинный, особенно сейчас, поздней ночью, когда мимо неслышно проезжает белая каталка. У него не хватало смелости двинуться по его длине.
Филипп смотрел на него и завидовал. Лицо старика в этой белизне сохраняло свой естественный цвет, и голова у того не горела, как у него. Ему не мешали тяжелые запахи, казалось, он только измеряет длину белого коридора, до того угла, куда свернула белая каталка с недвижимым грузом.
Скрип туфель прекратился вдруг. Ганс остановился как-то растерянно, словно кто подставил ему ножку. Филипп поднял голову и опять опустил ее. Все вокруг вертелось и было бело. Видел он только туфли Ганса и чувствовал, что больше не может сдерживать пресный комок в горле. Туфли дважды коротко скрипнули и подступили к нему.
— Врач, — сказал Ганс.
Филипп поднялся и ощутил, как комок из горла соскользнул в глотку. Перед ним стоял человек в белом с ужасно грустным лицом.
— Извините, мне плохо от больничных запахов, — сказал Филипп, чувствуя, что выглядит жалким.
Человек в белом попробовал было поднять свою усталую голову и произнес:
— Мы сделали все, что было в наших силах. Доза мышьяка, которую она приняла, оказалась смертельной.
Глаза Ганса чуть заметно заслезились. Туфли скрипнули, только ноги остались словно прикованные к полированному мрамору. Лицо Филиппа на мгновение обрело естественный цвет, а затем опять побелело и налилось пепельной серостью.
— Бедная Габи, — произнес он.
— Почему она это сделала? — спросил человек в белом. — Она убила в себе еще одну жизнь. Она была уже на третьем месяце беременности. Вы это, наверное, знали…
Человек в белом смотрел на Филиппа. Тот смотрел поверх его плеч в белые распахнутые двери и долго кивал головой.
«…После смерти отца я была страшно одинока, Филипп. Я встретила Сэма. Вначале он смотрел на меня как на святую… Неужели только потому, что он был черный, а я белая?..»
Красный лучик пересек лицо Филиппа и погас. Затем в окно блеснул оранжевый свет и молнией озарил мрачную комнату отеля. Теперь его лицо окрасилось в восково-желтый цвет. С открытыми глазами и остановившимся взглядом оно казалось лицом умершего человека, заглядевшегося в бесконечные дали, куда его заманила смерть.
Мигающий свет улицы был исполнен музыки, которую Габи так любила. В маленьком бистро под отелем Филиппа кто-то и этой ночью наслаждался или грустил под негритянские мелодии.
Подкошенный кошмаром отталкивающих запахов, которые он принес с собой из белого коридора, Филипп, одетый, лежал на постели. Он слушал музыку и Габин голос.
Голос дрожал и, как всегда, бархатисто-мягкий струился из грустной мелодии, которая время от времени возникала из тоски в нем самом.
«…А расстались мы так глупо из-за его бумажника… — Ее лицо улыбнулось лучику красно окрашенного света. — В Пратере было полно жулья, а он заподозрил меня в краже бумажника. Я никогда так не поступала, Филипп… Я всегда получала достаточно за то, что могла дать… У него я ничего не брала… Он сам приносил мне что-нибудь из того, чего не было в магазинах…»
Оранжевый свет залил ее лицо. Еще какое-то время он мог видеть ее заплаканные глаза.
«Я был голоден, Габи… ужасно голоден, и меня выбросили на улицу, — произнес его голос. Ему показалось, что это кто-то чужой, скрытый темнотой говорит от его имени с ее заплаканными глазами. — Нет, я никогда не смогу тебе в этом признаться… — сказал тот, в темноте, и голос его из тихого шепота превратился в звериный крик. — Я был ужасно голоден!»
— Я был голоден, Габи, — сказал Филипп и только сейчас узнал свой голос — Понимаешь, Габи…
«Ты в самом деле хочешь жениться на мне?» — спросили ее глаза. Они блекли в оранжевом свете.
«Конечно… Посольство выдаст мне визу и на тебя, — произнес его голос. — Ты полюбишь мою страну, Габи…»
«Не могу, Филипп. От той негритянской любви во мне что-то осталось».
Ее глаза совсем посветлели в красном свете, сменившем оранжевый. Из бистро уже не слышалось музыки. Тот, кто наслаждался или грустил под негритянские мелодии, сейчас уходил во мрак улицы, оплакивая утраченное, а может, надеясь вновь его обрести. Он вспоминал ангела и какое-то имя. Ругал и войну и мир.
Читать дальше