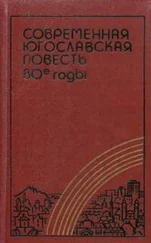Стева стоял на пригорке в клочьях дыма, который ветерок доносил с пожара, стоял как вкопанный, как обгоревший черный столб, и беззвучно открывал рот, заполненный белой пеной. Из-под опаленных бровей вытаращенные, налитые кровью глаза стеклянно блестели в отсветах огня, лили тихую слезу, оставлявшую бороздки на его закопченных щеках. Рядом стояла Паула — испуганная, лицо в копоти, платье разодрано, словно ее терзали сотни рук. Она плакала и непрестанно повторяла:
— Иисус-Мария… как страшно…
Розали стояла в стороне от всех. Ее заплаканные глава выдавали печаль по «королевству», которое пожирал огонь. На ней не было заметно никаких следов пожара, и оттого казалось, что она пришла сюда как сторонний наблюдатель, который спокойно вернется в свою теплую постель, унося с собой запахи беды, о которых сразу же забудет. То, над чем она уже теперь должна была задуматься, было далеко от реальности, спаленной вместе с баржей. С робкой надеждой, хотя и без особой радости, потихоньку отворачивалась она от пожара и оглядывалась на сияющие огни Пратера, где ждал ее старый балаган.
Остальные тихо, без слез горевали о несчастье человека, который был им дорог, хотя и ругал их и оскорблял, но все-таки делал он это на их родном языке.
Последние языки пламени полыхнули из обгоревших обломков, лизнули туман, вновь наползавший от реки, и незаметно погасли вместе с огоньком, из которого были рождены. В белом свете тлеющих угольев дверь бывшего дома на барже казалась призраком. Жестяная вывеска, раскачиваемая ветром, печально заскрипела, сорвалась и упала на пепелище.
Стева застонал, согнулся, точно что-то внутри у него переломилось. Он испустил короткий дикий вопль, а затем взвыл, заламывая руки и колотя себя по голове, в своем великом отчаянии уверовав, что это только кошмарный сон, от которого надо каким-то образом избавиться.
Паула заголосила вместе с ним.
Розали здесь уже не было.
Толпа редела и словно растворялась в густевшей мгле.
Стевины причитания и выкрики Паулы вдруг заглушил хриплый голос из тьмы. Кто-то оттуда, с берега, кричал, но слова не были слышны. Нелепая кучка людей сбилась плотнее, с опаской вглядываясь в непрозрачную пелену ночи. Наконец из мглы возникла фигура человека. Он бежал, задыхаясь, исполненный ужаса, одной рукой он придерживал неподпоясанные брюки, а в другой была шляпа, из которой лилась вода. Это был один из известных всем на барже пьяниц, один из тех, кто свою ярость вымещал во мраке, и люди сердито цыкнули на него, думая, что своей пьяной головой он еще не понял, какая беда приключилась нынче ночью. Он отпрянул, пораженный их поведением, и с тоской посмотрел на мокрую шляпу, которую держал в руке. С трудом ворочая языком, словно боясь сообщить им эту, куда менее важную, чем пожар, новость, с опаской проговорил:
— Учо утопился…
Люди искоса смотрели на него, думая, что он болтает спьяну, а стоявшие поближе сквозь зубы процедили свои упрек и брань:
— Мели, Трифун, мели. Спросить бы тебя, где-то ты завтра в долг налижешься. Неужели не видишь, что у нас «Отечество» сгорело?
Пьяница — сейчас ни пьян, ни трезв — замолчал и послушно стал среди них. Он попытался было в своей помутневшей голове привести в порядок мысли, понять, что же в самом деле произошло этой ночью: действительно ли он держит в руках шляпу утопившегося Учо, и неужели он и впрямь видит перед собой пепелище старой, доброй кафаны «Отечество». А когда понял, что и то и другое правда, закрыл лицо Учиной шляпой и заплакал.
Проехала белая каталка, беззвучно, точно небесная колесница, груженная чем-то, что, завернутое в белую полотняную простыню, лежало неподвижно, словно чурбак.
Филипп сидел на белой скамейке. В длинном коридоре бело. А его утомленное лицо было пепельного цвета, цвета пола из полированного мрамора, в чьем сиянии отражалась белизна коридора.
Белый цвет источал тяжелые запахи: пахло чистотой, болезнями и лекарствами, выздоровлением и смертью. Он думал об этих запахах. От них он задыхался, они душили его и мучили, как слабая доза цианистого калия, которым эсэсовцы умерщвляли свои жертвы в душегубках и газовых камерах.
Цианистый калий, валериана, йод, мышьяк… Чистота. Ему становилось все хуже. Голова горела, а в горле рос безвкусный комок из этих тяжелых запахов. Сухими глотками задерживал он его в себе, чтобы ком не выкатился изо рта. Эта неприятность с ним наверняка произошла бы, если б каталка не свернула и не исчезла из глаз. С ней исчез и запах смерти.
Читать дальше