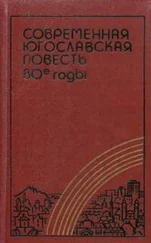Бранимир Щепанович
РОТ, ПОЛНЫЙ ЗЕМЛИ
BRANIMIR ŠĆEPANOVIĆ
USTA PUNA ZEMLJE
Beograd, 1974
Перевод о сербскохорватского А. Д. Романенко.
Завернувшись в грубые шерстяные одеяла, мы лежали не двигаясь и молчали, словно эта близившаяся к концу августовская ночь опьянила нас терпким запахом леса, кромка которого в распахнувшуюся щель палатки казалась извивающейся черной змеей. На самом же деле мы просто очень устали и хотели спать.
Он сидел в душном купе пассажирского поезда номер 96 и смотрел в бездонную тьму августовской ночи. И ничего не видел. С четырехугольного закопченного стекла ему отвечало размытое отражение его собственного лица, которое выглядело настолько измученным, что казалось почти чужим. Однако он улыбнулся своему изменившемуся обличью. Но сделал это недружелюбно и пакостно, точно издеваясь над самим собой из-за того, что спустя много лет ему приходится возвращаться в Черногорию вопреки ясному осознанию того, что там уже нет никого, кто бы обрадовался ему или хотя бы даже его узнал. Если бы в эту минуту можно было вновь извлечь из накрывшего все мрака какую-нибудь картину детства, чье-либо лицо или пускай давно позабытый голос, то, вероятно, он легче воспринял бы свое внезапное решение умереть на родине. Однако он не был в состоянии ничего вспомнить. Ничто теперь не отзывалось ему.
Однако сон долго не приходил к нам, хотя для этого не было никаких видимых причин: ничто нас не волновало и не беспокоило. Ничто нас не мучило и не держало в ожидании. Напротив, в этом глухом краю, где за последние годы мы летом проводили по нескольку дней, нам без труда удавалось позабыть о своих заботах и обязанностях, о своем обыденном, монотонном существовании, сводившемся к дому, службе и кафе, и, таким образом, в некотором роде отдалившись от самих себя, мы могли предаться неведомому, почти необъяснимому покою. И в этот раз вне всякого сомнения, не могло быть иначе. После долгого путешествия поездом и многочасового пешего перехода по бездорожью мы в конце концов оказались у цели, в пустынной необитаемой местности, переполненные, точно накрытые бесшумной синей волной, ощущением бесконечного умиротворения, которое настолько уравнивало наши мысли и настроения, что мы оба в любой миг без усилий могли прочитать желания и побуждения друг друга. Поэтому, должно быть, мы теперь и молчали.
Тогда он попытался поднять окно. Несколько минут мучился, прежде чем отказался от этого намерения, и вновь опустился на грязное и теплое сиденье. Бессильно вглядываясь в тьму, он в конце концов смог увидеть, как вдали то и дело вспыхивали и угасали какие-то огоньки, точно неведомый робкий ветерок попеременно уносил их и возвращал обратно. Эта обычная и неважная в любой иной ситуации картина вызывала теперь смутное предчувствие, что, по существу, мимо него мчится весь мир. Мысль эта, странное дело, его обрадовала. Он даже вдруг захотел сразу уловить в металлическом перестуке колес ту тишину, которая наступит потом, когда все окончится и исчезнет, словно никогда и не существовало. Оцепенев, без единой мысли в голове, он ожидал, что чувство это заполнит его целиком и тогда отпустит необъяснимая судорога, перехватившая пищевод, и он сможет, укрывшись в глубине неосвещенного коридора или даже в клозете, выплакаться и, очистившись и опустошившись, как если бы уже оплакал самого себя или примирился со смертью, натянуть на лицо маску каменного равнодушия, которая защитила бы его от постороннего любопытства и особенно от навязчивого людского сочувствия. Однако, как ни силился он поскорее привести себя в состояние отчаяния, чтобы тем быстрее его и преодолеть, нечто с непонятным упорством отвращало его — точно так же изнутри — от этого. Он чувствовал зловоние людского пота и смешанные запахи прогорклой колбасы, чеснока и ржаного хлеба, но вместо той опасной и желанной тишины слышал довольное чавканье своих незнакомых спутников, чьи безличные голоса и приглушенный смех все более побуждали его включиться в их долгий и неинтересный разговор. Потом он ощутил голод и устыдился этого — должно быть сознавая, насколько в обстоятельствах, которых нельзя было больше избежать, этот естественный инстинкт представлял позорное доказательство его бессознательного сопротивления всякой попытке очутиться лицом к лицу с ужасной правдой. Сидевший напротив человек молча протянул широкую мозолистую ладонь, предлагая ему ломоть хлеба и тонкий кружок колбасы. Он поблагодарил неопределенной улыбкой и принялся за еду, не ощутив в первое мгновение никакого вкуса. Потом почувствовал тошноту и вышел из купе. В конце коридора он поднял окно и выплюнул пережеванную пищу, хватая широко раскрытым ртом прохладный ветер, который равномерно заплескивал его светящимися жучками и угольной пылью. Наступило мгновенье, когда он больше не был в состоянии определить, ни сколько времени он провел в этом поезде, ни даже понять, когда он прибудет в Черногорские массивы. Он почти уверовал в то, будто мысли его остановились. Лишь чуть погодя он осознал, что поезд встал на маленькой глухой станции, и обратил внимание на дородную деревенскую тетку, которая с кучей пестрых узлов, неловко переваливаясь, бежала вдоль вагона. Она миновала его, и ему показалось, будто в воздухе запахло сыром и каймаком, однако ощущения голода он теперь не испытывал. Он ничего теперь не испытывал. И внезапно протянув руку, нажал на желтую никелированную ручку и неспешно, ни о чем не думая, спрыгнул во тьму.
Читать дальше