* * *
Мой дед Лео Розенбах всю жизнь страдал от недостатка сердечности и умер от сердечной недостаточности. Потому что его жена никогда не любила его. Потому что родной брат разорил его до последней нитки. Потому что единственная дочь его, вступив в брак, была обречена на несчастную жизнь — именно так запало ему в душу в результате всех перипетий, случившихся во время ее свадьбы.
Боже милостивый, да кто же, вступив в брак, тотчас же погружается в сплошное счастье — раз и навсегда? Уж Лео-то следовало бы это знать, и тогда, может, он не терзал бы себя напрасно и не довел бы себя до смерти…
Но он этого не знал.
Когда пробил его час, два человека стояли у его постели. Яна вся дрожала, будто предстала перед своим судьей. Она сжимала в ладонях безвольную руку Лео и шепотом причитала:
— Прости меня! Не оставляй нас!
Жестокое воспаление легких разрывало грудь несчастного Лео, глаза его блестели.
— Я всегда любил тебя, Яна, — отвечал он слабеющим голосом, — с первого и до последнего дня.
— Побудь еще хоть немного с нами, — умоляла его Яна, которая чувствовала себя виноватой, — как же мы будем жить без тебя?
Лео не отвечал. Он посмотрел в сторону Мальвы, которая в отчаянии крутила свое обручальное кольцо, и прошептал:
— Ты должна завершить твою учебу, моя девочка. Это моя последняя воля.
Мальва только всхлипывала. Неоспоримость этих слов была для нее невыносима.
— Я не хочу, чтобы ты так говорил, папа. Ты выздоровеешь. Скажи, что ты хочешь жить. Скажи!
Но Лео уже не слышал этих слов. Невидящим взглядом уставился он куда-то вдаль и прошептал, собрав последние силы:
— Мой крест «За заслуги», Яна, там… На комоде…
В душе Яны теплилась надежда, что муж переживет этот тяжелый кризис, и потому она ответила ему с улыбкой:
— Крест «За заслуги» кладут на грудь покойникам, а ты, Лео, будешь еще долго жить…
— Ты слышишь меня, Яна? — вновь прошептал умирающий. — Крест мне на грудь!
Яна нехотя повиновалась и сделала, что он просил.
— Но я прошу тебя, Лео, — взмолилась она, — еще не время для такого… Для этого…
Собрав остатки сил, Лео поднял указательный палец и направил его в сторону камеры, которая была установлена на штативе в ожидании исторического момента:
— Один снимок, Яна, последний… Рядом с Мальвой…
Яна сделала, что он просил.
— Но здесь слишком темно, — сказала она дрожащим голосом, направляя камеру.
Невесть откуда взявшиеся жизненные силы пробудились в этот миг в умирающем придворном фотографе.
— Диафрагма пять и шесть десятых, выдержка — одна шестнадцатая, — скомандовал он, — сними накидку!
Яна установила камеру и стянула с нее накидку.
— Я не могу! — застонала она. — Не могу! Не могу!
Но последние искры сознания придворного фотографа были целиком сконцентрированы на технических деталях, все другое для него более не существовало.
— Диафрагма пять целых и шесть десятых, — упрямо повторил он, — выдержка — одна шестнадцатая. Мальва должна молиться за меня.
— О чем должна я молиться, папа?
— Чтобы Бог простил меня, — ответил Лео, — за то что я экономил на угле и в нашем доме было холодно…
Было очевидно, что конец уже близок. Женщины заголосили. Яна взяла в руку спусковой механизм и выдавила из себя срывающимся голосом:
— Пусть Бог простит всех нас, Лео.
Придворный фотограф в последний раз приподнял голову и пробормотал уже почти неразборчиво:
— И помолитесь за нашего кайзера… За то, что он… Что эту войну…
Яна щелкнула затвором камеры. Голос Лео оборвался на полуслове. Он упал на подушку. Тусклый огонек, который целую жизнь мерцал вполнакала, окончательно погас.
* * *
«20 ноября 1915 года.
С июля прошлого года я не открывала мой дневник. За это время я стала женщиной и зовусь теперь по-другому. Как и продолжающаяся война, которую теперь называют мировой.
Папы больше нет. Он умер своей смертью, и на том, как говорится, спасибо.
На Западном фронте немецкие части уже применили ядовитый газ. Это так ужасно, что мне совестно смотреться в зеркало. И это — против наших союзников! Жуткую летучую смерть закачали в стальные бочки, и при благоприятном ветре — так без тени смущения называют это варварство — немцы открыли газовые краны. В пять утра, когда поют петухи. Плотное желтое облако поползло из наших окопов. Я говорю „из наших“, потому что и я принадлежу к этим варварам. Значит, есть в этом и моя вина. Я не сделала ровным счетом ничего, чтобы предотвратить это зверство. Смертельный туман, от которого нет спасения, достиг расположения французских частей. Северо-восточный ветер способствовал тому, чтобы этот туман быстро стелился в сторону противника, подобно ковру. Произведенное им действие не поддается описанию: большинство отравленных солдат умирали от удушья на месте. Некоторым удалось спастись бегством, но и они вдохнули от ядовитого облака. В считанные минуты лица их почернели. Кровавый кашель добивал их одного за другим. Мы истребляли французов массово, как опасных паразитов. Потому что мы — нация культурная, а все остальные — варвары. Так выглядит это зверство. И Ремский собор, это величайшее творение человеческих рук, мы без устали поливаем огнем и железом. Именем культуры! Наши прославленные цеппелины бомбами засыпают Париж. Чтобы защитить высокую германскую мораль от порочной безнравственности южан! Само Провидение — на нашей стороне. Правота, разумеется, тоже, поскольку французы проповедуют равенство и братство, а это все несовместимо с принципами монархии и, значит, должно пресекаться со всей беспощадностью. Пушками, зажигательными бомбами, отравляющим газом. Бить без промаха: каждый выстрел — одним русским меньше! Или одним французом. Да здравствует культура!
Читать дальше


![Андрей Каминский - Проект Плеяда 2.0 [СИ]](/books/35370/andrej-kaminskij-proekt-pleyada-2-0-si-thumb.webp)

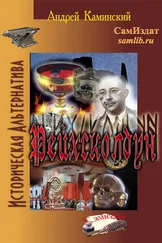

![Андрей Каминский - Избранник тёмного бога [СИ]](/books/394849/andrej-kaminskij-izbrannik-temnogo-boga-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Чёрные воды [СИ]](/books/394850/andrej-kaminskij-chernye-vody-si-thumb.webp)
![Андрей Каминский - Нет времени для Тьмы [СИ]](/books/394879/andrej-kaminskij-net-vremeni-dlya-tmy-si-thumb.webp)


