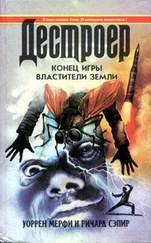— Товарищи! — закричала она и задвигалась, заподпрыгивала на снегу. — Где мне найти Цанко Иванова? Сообщили, что с ним что-то случилось. Обратиться не знаю к кому, помогите…
Так как женщина была уж слишком дородна, чтобы называться худой, мы глядели на нее малость оторопело. Лицо крупное, красное, про такие говорят — лопается от здоровья. У меня даже мысль мелькнула: из нее-то целый литр крови можно выкачать без всякого вреда.
— А вы ему кем доводитесь? — поинтересовался парнишка.
— Супругой я ему довожусь, — ответила она и вынула платочек, скрививши лицо для плача. — С ним что-то опасное?
— Да нет, ничего опасного, — поспешил ее успокоить парнишка. — Только мы думали…
Я толкнул парнишку, а остальным сказал:
— Вы идите, а я тут с гражданкой побеседую.
Они пошли, любопытно оглядываясь и спотыкаясь о камни, припорошенные снежком. А мне опять пришлось тащиться в медпункт, вести туда толстую гражданку. Шел я и все отгадать старался, как примет она сообщение о бай-Цанковом кровотечении; прямо диву давался, зачем он нам врал, что она у него такая больная, и вообще, какую роль играет эта женщина в убогой его жизни? Она вышагивала рядом со мной, рассказывала, как она перетревожилась, да как такси было трудно найти и как потом в двух местах машина скользила. На ее меха садились снежинки, но она так суматошно вертелась во все стороны, что они мигом соскакивали. Чем-то была мне отвратительна эта полная женщина, и, сам не знаю почему, я подумал: это она виновата в том, что бай Цанко нам плел про ее худобу.
— А с детишками как? Бай Цанко часто…
Она меня прервала глубоким вздохом, стыдливо этак стрельнувши в мою сторону заплывшими жиром глазками:
— Ах, и не говорите, дети — главная боль в нашей жизни. Цани их просто обожает! Он меня, конечно, не винит, но я-то сама понимаю, как ему тяжко, нет-нет да и утешу: ничего, мол, Цани, через несколько годков возьмем себе и мы дите из дома ребенка. А пока молодые, надо и для себя пожить. Верно ведь я говорю? Вы-то небось детишками обзавелись, где вам нашу беду понять.
Стоял я на снегу и сам на себя досадовал: как это я сразу не сообразил, когда она из машины вывалилась, что никаких детей у нее нет. Бездетных женщин, которые в возрасте, сразу видать, чем-то они отличаются — взять хоть бы эти дурацкие ее соболя.
— Я-то обзавелся, — пробурчал я, прибавляя шагу.
— Тогда вы и представить не можете, как без малышек скучно, — гнула она свое, мелко перебирая ногами и испуская глубокие вздохи. — Но тут уж ничего не поделаешь. Жить-то все равно надо, ведь правда? Да и что в них, в детях, такие с ними расходы, а так лев-другой сэкономишь. Мы уж деньги внесли на легковую машину, а теперь я уговариваю Цани мебель сменить, чтоб потом ребеночку-то бедствовать не пришлось.
— Неплохо придумано.
— Такая я довольная, что он сюда устроился, два раза в месяц шлет переводы, пишет, что вы тут золото роете… Хе-хе-хе. Только бы с ним все добром обошлось.
Мы подходили к медпункту. Сквозь пелену летящего снега проступила очередь ждущих рабочих, изрядно уже поредевшая.
— А это еще что за хвост? — спросила женщина. — У вас как с продуктами? Снабжают?
— Снабжают. — Я уже ненавидел эту толстуху, прямо заорать на нее хотелось, чтобы замолкла. Показал ей дверь в канцелярию:
— Туда вон ступайте и подождите. Муж у вас приболел немного, пройдет. Часа через два я за вами зайду.
— Знали бы вы, как я волнуюсь, прямо страх, — проныла она напоследок, подходя к канцелярии.
А я двинул обратно в общежитие, стараясь отогнать мысли и про бай Цанко, и про его жену, и про всю их насквозь фальшивую жизнь, но мысли эти никак отставать не хотели. Вдруг почувствовал, что-то карман оттягивает. Сунул руку — два куска медной породы; запустил их с досадой куда подальше, и пропали они в снежной белизне.
Перевод Н. Смирновой.
I
В ночь под понедельник Димитру Стоянову, по прозвищу Первый, приснился странный сон. В какой-то сырой, с низкими потолками комнате, схожей со старой городской баней, полным-полно мужчин и женщин, почти все свои, со стройки, но есть и чужие, в шляпах. Раздеваются, одежду сваливают в угол, и кто ни разденется — тело обросло козьей шерстью, густой, лоснящейся, как у выхоленной собаки, ни пятнышка кожи не проглядывает — сплошная шерсть. На лицах у всех — враждебность, толпятся и теснят его в угол. Воздух пропитан тяжелым духом козьей шерсти, Димитр задыхается, стоит в боксерской стойке, но кулаки в ход не пускает, смех разбирает его от всего этого, будто от щекотки. Здесь и Незаменимый, приблизил к нему свое лицо, обросшее, как у питекантропа, и говорит: так-то, браток, без денег шерстью не прикроешься.
Читать дальше