Комментарии за кофием, чаще всего, в точку: в этом не откажешь.
На последней странице газеты наш аристократ увидит мельком фамилию иного поэта, — кто-то из гостей опрометчиво скажет с придыханием: «Там, кажется, о Пушкине?» — и тут же услышит в ответ: «Пушкин ваш — никчемный пошляк: в букваре, с картинкой, с расставленными ударениями и по слогам — вот только там его и можно читать».
Если дети вбегают к барину (живут не с ним) — он их холодно целует и скоро гонит: шумят и пахнут. Про детей у него свои представления; но жена их не разделяет. Пустая дура. За что только любил. Любил ведь.
(Я точно читал эту книжку. Писемский, что ли? Тургенев? Лесков? Ну не Помяловский же. Точно, Писемский. Надо полистать, вспомнить.)
Между тем, старик Эд по-прежнему управлял, как он это называл, экстремистской организацией — воистину мифической сцепкой диковатых подростков, когда-то придумавших в русской политике то, что спустя двадцать лет почти стало (на самом деле — только на словах) повесткой для всего этого, что скрывать, пошлого и подлого, но такого величественного государства.
Партия пережила свои лучшие времена — и теперь старик Эд думал, как бы её перезапустить, оживить, раззадорить.
С тоской я представлял, что однажды к старику просто не явятся его телохранители (один пошёл зуб лечить, другой проспал, третий с бабой укатил в Сочи, четвёртый просто раздумал приходить, а сказать постеснялся), потому что защищать его, кажется, было уже не от кого: ещё вчера ненавидевшая нацболов власть (и подментованные дегенераты с битами) не то, чтоб смотрела в их сторону равнодушно, а не смотрела вообще.
«Старик Эд? А что старик Эд? Да нормальный старик Эд, любопытные статьи пишет».
Центр Э (по борьбе с экстремистами) вполглаза приглядывал за оставшимися при старике Эде нацболами, зная их поимённо. По совести сказать, теперь хватало с избытком других экстремистов, натуральных головорезов, — сторонники же старика Эда в рейтинге государственных ублюдков упали с ведущей позиции далеко за пределы первой дюжины.
Старику Эду более всего пошло бы теперь обратиться в доброго, как Серафим Саровский, дедушку: раскрывать руки, чтоб птицы на них садились, всех жалеть, тихо улыбаться — он ведь иногда улыбался, он умел. Он был, в сущности, по-настоящему добрым человеком.
А он всё не хотел обращаться в дедушку Серафима, он хотел обратиться в Савонаролу: призывать бури и камнепады, — и чтоб они случались, — а он, стоя посреди площади, взмыв руки, кричал что-то, неслышное за грохотом камней и ветра.
А он не был Савонаролой.
В итоге старик Эд давно бы превратился в сварливого старика, ни о чём, кроме себя самого, думать не умеющего, — но Господь всё предусмотрел, Господь не желал испортить такой великолепный образец.
Старик Эд думал о себе ровно потому, что про старика Эда стоило думать. Он был поразительный, небывалый, невесть откуда явившийся субъект. Он и сам никак не мог взять в толк, откуда он такой взялся: и всё вглядывался, вглядывался, вглядывался в своих наполовину русских, отчасти хохляцких, отчасти татарских родителей, пытаясь разгадать: откуда у них, таких обычных, — он, такой необычный.
В конце концов, старик Эд сочинил, додумал себе аристократическую генеалогию — и сам в неё уверовал: ну должно же всё это как-то объясняться, боже мой.
Он же изучил внимательно биографии всех этих великих — старик Эд в каждой третьей своей книге загибал пальцы: Сальвадор Дали — да ладно, жулик; Есенин — бесхитростный, хотя наш, да; Муссолини — ничего так, с характером; но в итоге-то что? кто собеседники? кого рядом поставим? — Платон, Врубель, Ленин… что-то такое. Хотя и к этим вопросы, и к этим.
Но и в таком подходе не было ничего смешного. Старик Эд действительно был из перечисленного ряда, или из любого подобного ряда, — можно выстроить, чтоб старик Эд не ругался, такой, к примеру: Мальтус (метко выбран стариком Эдом в качестве ровни за верное опознание причин грядущего Апокалипсиса), Мартин Лютер Кинг (он имел мечту — и старик Эд имел мечту), Иосиф Бродский (после смерти был прощён стариком Эдом за слишком громкую прижизненную славу и признан как равный).
Старика Эда можно было б осудить за самомнение — если б мы нашли, кого поставить с ним вровень.
Он был несказанно свободен. Он был очень последователен. Он обладал дичайшими амбициями. Он никогда не боялся показаться смешным.
У старика Эда был изысканный, безупречный вкус к искусству.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
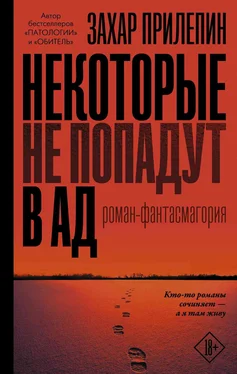
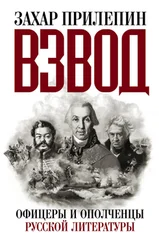






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



