Кому, блядь? Кому мне отчитаться? Вам, шамкающие стукачи, слюнявые подбородки, скисшие в рыжую простоквашу мозги?
Приди ко мне, допотопный сочинитель доносов, приди хотя бы раз, — я отчитаюсь тебе за всё. Я перескажу тебе каждый день своей жизни. Почему тебя нет рядом, я бы делился с тобой всем. Я бы разделил с тобой хлеб, вино, печаль, ответственность, тапки.
— Откуда ты это взял? — спрашиваю у Казака.
— Батя дал, велел тебе показать, — отвечает он.
— Передай, что я хохотал.
Хотя не хохотал вовсе. Даже не улыбнулся ни разу.
Поднялся и говорю:
— Саша, я приехал в республику, ты же знаешь — сам, без кремлёвских заданий, на свои деньги, на своё здоровье. Горблюсь тут, то ползаю на пузе, то скачу скакуном, тяну жилы — на них уже можно «Кузнечика» играть одним пальцем, — всё для чего? Чтоб какие-то твари лепили на меня липовые дела? Пусть они все идут нахер, Саша.
Казак улыбнулся и обнял меня.
Я забыл в ту же минуту об этой папке. Вспомнил вот только сейчас.
Наверное, с тех пор папка стала в десять раз больше. Наверное, теперь там несколько десятков папок. Их время от времени катают на специальной каталке по коридору, чтоб они проветривались.
Никакие компроматы не пугали меня тогда и уж точно не пугают сейчас.
Да, мы, разведовательно-штурмовой батальон, мало разведывали и точно ничего не штурмовали: не было приказа; сидели на месте, там, где скажут. Зарывались, ждали, стреляли по сторонам, ждали, стреляли, зверели, тупели от ожидания.
Потом вскроются все документы — всё выяснится: сколько людей мы загубили под Троицким, сколько под Сосновкой, сколько ещё в нескольких местах, где мы, чёрт, работали. Не думаю, что это принесёт кому-то радость, а нам, мне — гордость; это всё плохо. Но это вскроется, как река, — забурлит, попрёт куда-то чёрная вода. Чьё-то объеденное тело вынесет на берег — будет неприятно смотреть, но придётся всё равно.
Кто это сделал, папа?
Это я, сынок, сделал.
Зачем ты объел ему всё лицо, папа? Кто его теперь узнает?..
Вскроется и другое; я хотел бы дожить — просто из любопытства: обязательно найдутся те люди, которые приезжали убивать меня, но не убили — по крайней мере, вовремя. Отыщутся эти приказы — где есть моя фамилия, моё имя, моё отчество. Я хотел бы посидеть за кружкой пива с этими парнями, которые меня высматривали, искали, нашли, потом снова потеряли. А так ждали встречи.
Мы не выпьем ни глотка этого пива — ни я, ни они. Никакой трагики не будет в этой встрече — просто не выпьем. Невкусно.
Это почти как разговаривать со своим патологоанатомом. «К чему ты хотел разрезать меня, человече?» — «А ты не знаешь?»
Единственное, что я хочу сказать: в тот раз под Сосновкой ракеты запускали не мы.
Это было не наше РЗСО.
Мне зря звонили и орали на меня.
Я знал, что меня не посадят, потому что в тот раз был не я.
Да и если б я — тоже не посадили бы.
Но не я, не я.
* * *
Кажется, я спутал, смешал воедино какие-то события: провёл в Донецке четыре зимы, три лета, — поневоле смешаешь. Отчего помню времена года? — просто у меня день рождения летом, и три дня рождения подряд я встречал там.
Три лета сплываются в одно.
В каком-то смысле, оно и было одно.
Кому нужно, попробуйте разложить кубики заново, я соглашусь и с вашим представлением, — но сам не буду пересказывать ещё раз.
Однажды я уже говорил, что правда — это как запомнилось.
Правда: как спето.
Иногда бывает так: историк всё разложит по датам, по этапам, вычленит, зафиксирует, классифицирует, мумифицирует.
Потом мимо плывёт лодка, в лодке сидят люди, поют песню, — слушаешь песню и понимаешь: всё было, как в песне.
Но это — если песню сложили. И если она прижилась, если поётся.
Про донецкую герилью ещё не знаем, как приживётся, — у нас нет возможности забежать вперёд, чтоб оглянуться и оттуда крикнуть: есть! помнят! поют!
Из той точки, где мы находимся сейчас, оглянешься — и снова видишь: князь Игорь закусывает губу, чтоб не закричать, а Ярославна — кричит себе со стены; город Козельск держит оборону, пока не выгорает весь, до последней потной пряди на детском виске; Марфа Посадница и слезу не проронила — взывает к людям: «Очнитеся!»; авантюрист Ванька Болотников собирает разбойничков, улыбается, глаз вот только щиплет, что-то в глаз попало — может, выколют его, тогда пройдёт; казак Некрасов, борода лопатой, уводит донских казачков за пределы звероватой Московии, чтоб выстроить на многие века старообрядческую общину; Емелька Пугачёв показывает сотоварищам царские знаки на теле — на самом деле обычные родимые пятна; крестьянин Герасим Курин, собрав шесть тысяч с вилами и косами, режет, косит и колет европейского неприятеля; барон Унгерн подозревает заговор, обдумывает казнь заговорщиков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
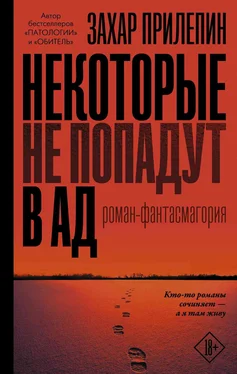
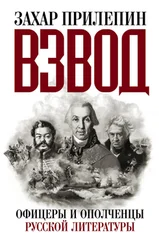






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



