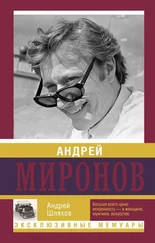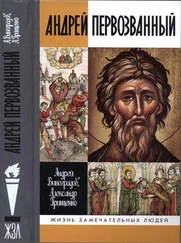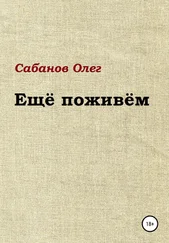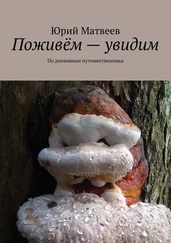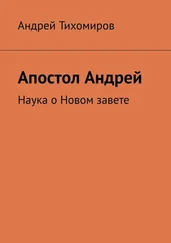О. Уайльд. Из глубины
Жизнь подражает письменам. Возможно… Любым? Любым, даже вполне бездарным… Это-то и пугает. Слова, слова, слова… Сначала — ажурная паутинка предначертаний, далее — основательное плетение словес, затем — зыбкая почва существования. Допустим… Как-то всё шатко. Словом, вот ведь! Игрушечный мостик над мутным потоком реализма… А тотальное поглощение? Как же, прорва… И в её хаосе — за всем не уследишь — неизбежная утрата того, что до поры казалось незначительным, мелким, никчёмным…
И главное ускользает, как юркая ящерица из детской ладошки. «Самое главное — то, чего глазами не увидишь». Зато чепухи в избытке. Хаос. И так всегда… Неизменно лишь прошлое, хотя куда только не заведёт гордыня, иногда так и хочется встрять, отодвинуть декорации, забыть про текст и… А что же там, всё-таки, было? Так ли всё, как написано, или это только фасад, а там, за ним — что? Тайна — тайна, которая просто есть, и этим всё сказано, но таков ли был замысел? Не напутал ли чего сочинитель, неосмотрительно поддавшись прожорливым соблазнам повествования, а если — да… То кто же тогда всем заправлял, и что это было за представление, так сразу и не поймёшь… Другие времена, другая жизнь… Но, всё же, всё же…
Не упустить бы нить, самое главное: цветок, ребёнок, зверь…
В норе пахло любовью. Любовь в хлеву. Жалкая была нора. И мальчик рос хилым. «Не жилец. Ясное дело. Из грязи сделан,» — ехидно верещали соседки, слегка озверевшие от чересчур праведной жизни, пресной, как еда без соли… Перчика бы! Говорили — и некому было заткнуть их вонючие глотки, отца у мальчика не было, вот что… А мать? А что — мать? Блудница, она жила, как в тумане, превратив свое ложе в проходной двор, двор был усыпан цветами и залит вином, но слишком уж там многолюдно. Толкотня, давка, возня. Про мальчика все забыли. И он стал тенью, слезой, пылинкой…
Его перестали замечать. А он — глаза, одни глаза цвета весеннего неба — видел всё. И поспешный торг, и нескончаемые застолья, и жадное, животное тепло совокуплений. Прельстительный образ греха, тления, распада. Он был его частью, растворился в нём. Гнутая спица в свирепо грохочущим колесе предместья, где жизнь всегда в тягость, так и тянет забыться, чем угодно — вином., женщиной, разбоем…
Но вот однажды мать сказала ему: «Посмотри, какую розу мне подарили!». И он очнулся. Действительно, роза! Жёлтая ливанская роза. Мучительное воспоминание о каких-то неведомых временах, землях, людях. Сияющий облик надежды. И заскрипели пружинки, посыпалась ржавчина, затрепетало сердце. Бедное его сердце, оно сжалось. Его потряс сладостный испуг узнавания того, что когда-то было скрыто в душе, но как-то там затерялось, пожухло, выпало ненароком. Он изумился, онемел и долго расхаживал вокруг цветка с выпученными глазами. Роза существовала. Это не бред, значит…
Но, нет, цветок его не заметил. Цветку нравился ветерок, который так нежно перебирал его лепестки, цветок любил воду и деловитую пчелу, неизвестно откуда залетевшую в их лачугу, наконец, цветку нравился цветок, он знал себе цену и восхищался собой, а при чём тут мальчик? Да… И мальчик осатанел от ревности, он впился зубами — о, он уже умел ненавидеть, этот бешеный волчонок из глухого предместья, впился в эту ослепительную, сводящую с ума плоть, и даже шипы его не остановили. Преданный, в который уже раз, прижатый к стене, он взбесился… 0н разорвал розу и растоптал её лепестки. Маленький, глупый волчонок…
Жёлтая ливанская грёза умерла в нём. «Что ты наделал, Иуда! — гневно вскрикнула мать. — Пошёл вон!» И он пошёл, пошёл, куда глаза глядят, без страха. Когда сердце разбито, весь мир — пустыня, так что, какая разница, куда…
А что могло бы быть дальше? Вероятно, он стал вором, пиратом, приказчиком в меняльной лавке. Узнал жизнь, изучил людей, потерял веру. Ему захотелось покоя, и вот, купив дом, он женился. Но, что жена! Бледная звёздочка на тусклом небосклоне. Когда он смотрел на неё на рассвете, в призрачной полумгле, а ласковый ветерок беспечно играл золотистыми прядями её волос, он видел розу, только розу, жёлтую ливанскую розу. И сходил с ума. Его начинало трясти, как в лихорадке. Он снова жаждал чуда, но вставало солнце, жена просыпалась, и всё возвращалось на круги своя — грязь, ругань, побои, тщета любовных ласк — и весь мир, как прежде, начинал вдруг бешено вертеться вокруг него, и он понимал, что ему нужно смываться, как можно скорее, тут уже не до шуток…
И он смылся, бросив дом. Ушёл, не оставив любимой жене даже позеленевшего медяка… «Молодая, крепкая, не пропадёт», — решил про себя он. И ночь стремительно сомкнулась за его спиной, быстрая, как нож, но быстрее её броска был его бег, бег от тех лепестков, что валялись и тлели в той жалкой лачуге, на окраине паршивого городка. И вновь дороги закружили его. Города, подворотни, портовые кабаки и шлюхи. И запах прелой полыни истомил его душу. Так шла теперь его жизнь, таков был его выбор. Он нищий. Его сердце — засохшая коровья лепёшка на каменистой тропе. Кажется, всё.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу