Прошло.
Она сейчас больно осознавала, что все теперь у нее в прошлом. Жизнь закончилась.
Прошло. Дети выросли, давно выросли и заимели своих детей и все у них, слава Богу, ладно и хорошо. Зачем она им? Так, лишняя обуза. Станут теперь ездить, беспокоиться, как говорится, окружать вниманием. А не надо, не надо ей никакого внимания, будет одна, одной-то теперь лучше. И плакать сейчас ей незачем, чего детей-то расстраивать лишний раз? Хотелось быть одной, чтобы уж тогда и выплакать, упиться своим горем сполна. Горе! Горе, горше не бывает. Эх, Михалыч-Михалыч, дорогой мой человек!
В автобусе она попросила, чтобы везли его с открытой крышкой гроба, последний раз, мол, хоть посмотреть на него подольше, и всю дорогу до кладбища от безбожной тряски то и дело поправляла ему голову и складывала на груди расползающиеся руки, кормившие и ласкавшие ее пятьдесят с лишком лет.
На кладбище ритуал был проделан педантично, дежурно учтиво и быстро, даже показалось, что чересчур уж быстро забросали землей дорогое ей тело. Ну что ж, поклонилась в пояс могиле и обратно домой, на поминки.
Домой… Ничего теперь для нее не осталось в ее доме.
Часа через три скорбного застолья случилось ее дочери пихнуть локтем одну сильно подвыпившую родственницу, пытавшуюся затянуть какую-то песню, забывшую, видимо, под воздействием винных испарений по какому поводу все сегодня здесь собрались.
Но она не обратила на это никакого внимания. Ей до того стало все равно, до того… На самом деле, и правда: все остальное уже не важно.
Разбрелись гости. И вот уже все убрано, перемыта вся посуда. Она сидит на кухне. Одна. Закурившая сигарету младшая дочь говорит ей что-то, успокаивает, но ей и смешно и тоскливо от всего и от всех. И лишь затем, чтобы дочь от нее отстала и оставила, наконец, в покое она произносит слова — выдох ее намаявшегося горем сердца:
«Все нормально, дочка, спасибо. Все как у людей».
Среди ночи, вразрез сладкой полудреме, мягенько постучалось воспоминание:
— Можно?..
— Кой черт тебя несет-то, когда спать? Дня тебе мало?
— Да днем же — сам знаешь — то да сё. Ты занят собой, а я затерто тобой. Только ночью мы оба посвободнее. Можно?
Вот чего оно навязывается? Я его просил? Я его звал? Приперлось! Прискакало! «Можно?..» Не можно! В сто рублев морожно!..
— Ну, давай, чего там у тебя, о чем?
— Да, сам видишь, мин херц, конкретики сегодня никакой. День какой-то взбалмошный, никак нельзя сосредоточиться, поэтому такой вот тут дивертисментик, такой вот сюр-сборничек того-другого-третьего сквозь все почти что твои времена. Возьмешь?
— Ну, как те сказать?.. Больно уж измочалено все. Замызгано уж больно. Старо.
Воспоминание все же, не смотря на мое слабое сопротивление, уютно расположилось и даже вытянуло свои корявые ноги в проходе, показывая тем самым, что сию секунду покидать меня вовсе не собирается.
— Ладно, зафикстулил! Я ненадолго, честно. Полчасика плюс-минус километр.
Победа! И я, сдаваясь этому заиндевелому фантому, зашелестел желтыми страницами навязанного мне только что моего же собственного сюр-сборничка…
Но полчаса — это ведь не вечность! Ибо «Все пройдет… И это проходит…» Нет уж, пускай не проходит! Я вспоминаю, я шевелю извилинами, а значит — я живу!
Утреннее пробуждение всегда не перевариваемо и неприятно уничтожающей конкретикой. Утро обычно далеко отстоит от мечтаний и воспоминаний… Любых. В том числе и того, с которым нынешней ночью мы так закадычно терлись. Тогда так ли уж реально сегодняшнее утро? Так ли уж оно съедобно, если несет в себе столько плесневелого дневного хлама?.. Не знаю…
Вхожу в день и хлопаю за собой дверью. А ведь так же точно хлопало мое воспоминание, покидая меня в самую предрассветную секунду… Только я не услышать… Я спал.
— Знаешь, Вова, а первый снег — это к весне, — говаривал старый зек дядя Коля, растирая какой-то ядовитой мазью больное ревматическое колено. — Оно ведь как у времени? Первый снег, так? Значит, месяца через полтора-два новый год, так? А после нового года чего там, ерунда остается, тьфу и растереть.
— Вот и растирал бы ты молча, — ворчал со своих нар какой-то отдыхающий после работы сокамерник.
— Закройся там, шмордепень! — «утирал» того дядя Коля и невозмутимо продолжал о прелестях первого снега. У него вообще была такая практическая и полезная жизненная установка — что бог не делает, все к лучшему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


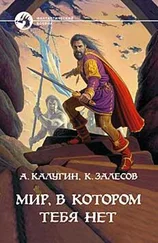
![Алексей Доронин - В двух шагах от вечности [litres]](/books/393807/aleksej-doronin-v-dvuh-shagah-ot-vechnosti-litres-thumb.webp)






