Ну, так и что вы хотели?.. Банальное и звучит банально: на улице идет дождь. Ах, вам надо в магазинчик за хлебом? Что с того? Возьмите зонт, банально оденьтесь потеплее. Пошли. Видите — дождь, и все кругом, видите, течет… Течет. И не только дождевая вода. А в магазинчике — народу-у!.. Хлебца нам, пожалуйста. Черного и белого, только не горелого. Дикость какая — две юные художницы в вашем старом дворе, разумно укрывшись от дождя спасительным тентом, срисовывают с натуры ваш обветшалый дом. Ваши глаза на него не глядели бы, а им, по-видимому, он нравится. Еще, смотрите, умудряются при этом ласкать и подкармливать бездомного пса… Давайте лучше пойдем скорее. Дождик. Ну, конечно! Кто же, милая, в такой дождик в босоножках на улицу выходит?.. И плачете вы теперь так горько — что? Из-за промоченных в лужицах ножек? Ах, из-за собственной никчемности, неприспособленности, из-за неумения радоваться? Главное — из-за неумения получать ответы на собственные вопросы. А вы живите. Просто. Банально. Живите!
Я очень люблю (люблю!) людей, но нескольких друзей я потерял, а многих не приобрел. Хоть мне и не по душе шумные разношерстные компании, но я люблю (люблю!) собираться, петь и беззлобно подшучивать над другими, а больше — над собой. Я понимаю и знаю что такое здоровый образ жизни, хоть я, по-правде, и к моему глубокому сожалению, давно уже не мальчичек… НО квинтэссенцией доброго, МОЕГО доброго утра до сих пор является (пусть хоть и растворимый!) сладенький кофеек с лимончиком, табачок в трубке, вот этот вот блокнот со множеством чистых листочков, гелиевая ручка и никого… Ни-ко-го! С добрым утром!
Так. Теперь давай все с самого начала, только — я умоляю тебя! — не торопись. Я те, едрит тыть, не стенографистка! Не спеши, а то успеешь! Не гони, а то будет как всегда — сам не понапойму чего понаписал. Не могла, блин, почерк другой дать?! Кто давал… Кто давал… Не ты… Не ты… Ладно, поехали. Чего там? Ореол романтизма развеян ветрами презлыми… «Пре» или «при»? Грамотность тоже, знаешь… Тебе ж самой потом стыдно будет! Презлыми? Ладно. Дальше. Огрубел как кирпич, о который чего-нибудь точат. У любви, как у суки, сосу пересохшее вымя, а она не дает молока, даже если и хочет… Ну и образы у тебя — площадные выражопливания: сука… вымя… Где у суки вымя? — я тя внимательно спрашиваю! Ладно, че там дальше-то она, сука-то твоя с выменем?.. Ага… Даже если захочет она по застуженным жилам пробежаться стремглав, понарошку меня пригревая, то скажи, расскажи, объясни — где мне взять столько силы, чтоб держать ее крепко? Не знаешь? Я тоже не знаю! Ну вот! Можешь ведь, если захочешь! Торопыга. Вечно все торопишься. А еще Муза… Два арбуза покатились в Дом Союза… Давай, полетела, все. До новых встреч!
Старый-старый подмосковный пруд давным-давно сделался болотом. Никто сейчас и представить себе не в силах, что когда-то в его утробе кишели караси и их вкусной икрой, не брезгуя к тому и лягушачьей, беспошлинно лакомились вездесущие ротаны, на местном ребячьем языке называемые бычками. Закроем глаза. Представим себе зрелый пупырчато-желтый основательного размера лимон. Мы держим его на ладони, рассматриваем в подробностях, а потом резко так — кусь!.. И во рту появилась слюна… Стоит мне представить себе опутанное ряской и сожранное годами зеркало бывшего пруда — в горле появляется комок. И пока он еще небольшой, но очень чувствительный. Но медленно-медленно на его основу начинают накручиваться одному мне и, разве только очень ограниченному теперь числу людей, имена… Вот, прямо лентой такой, знаете… Лентой. Потихонечку. Клавдия Зиновьевна — Береговкины — Марь-Ванна — Суходвинский… Комок обрастает, обрастает… И все! Не проглотить уже и не вынуть! Старый-старый подмосковный пруд давным-давно сделался болотом… Воспоминания не должны зарастать. Они, правду сказать, не раскрывают будущего, но зато ярче и четче проявляют настоящее.
Мама болела долго и безнадежно. Врачи разводили руками и вполне голословно подтверждали Наде диагноз, советуя теперь уповать разве что на какое-то чудо. Но ведь чудес не бывает! И Надя, безошибочно ощущая пролет всех на свете чудес мимо нее и мимо ее мамы, все же как-то еще силилась надеяться. Надеяться. Чтобы жить. Жить! Женщина до неузнаваемости исхудала, казалось даже будто бы покрылась какой-то невидимой коростой… Но характер! Но сила! Но дух! Боевой, стойкий, непреклонно позитивный! Чудо случилось на четвертый день, дома, на четвертый день после неизбежной отмены больничного режима. Мама решительно поднялась со своего диванчика и четко и ясно потребовала от дочери встречи со знакомым специалистом на предмет немедленного протезирования четырех верхних передних ее зубов. Чудо! Умирающая не может иметь подобного стремления! Это означало только одно: маме жить! Долго! Нечего и говорить, что необходимые процедуры восстановления совершились с архикосмической скоростью и с отменным качеством работы. Дома устроили скромный банкет на две персоны. Пили хорошее вино — обмывали новые зубы, хохотали, обсуждали планы, сплетничали… Поздней, уже очень поздней ночью Надя уснула счастливой и умиротворенной, чего не случалось уже давно в унылом протяжении надоедливо долгих тягучих дней… Проснулась Надя практически днем — изрядно выспавшаяся и отдохнувшая, со счастливой улыбкой на со вчерашнего подкрашенных губах, она впорхнула в открытую дверь маминой комнаты… И еще какие-то полторы-две минуты улыбалась, ни за что не желая верить в исполнение приговора судьбы. Потом, вдоволь наревевшись на бездыханной высохшей груди матери, она прочитала записку, исполненную красивым и волевым маминым почерком: Дуреха, не вой! Сама подумай — неужели я могу лечь в гроб с такой невероятной дыриной во рту? Это так не эстетично!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

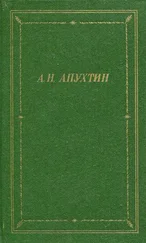






![Алексей Вязовский - Триумф Красной Звезды [CИ]](/books/419639/aleksej-vyazovskij-triumf-krasnoj-zvezdy-ci-thumb.webp)


