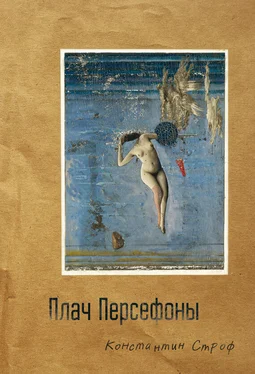– Хотя, собственно говоря, на что это мы надеялись? – его бульдожьи, свежевыскобленные щеки, на блеск которых было неприятно смотреть спросонья, негодующе затряслись. – Чего, говорю я, можно ждать от человека, во столько лет не прожившего по существу ни единого года?
Пилад не знал точно, что генерал хотел выразить своей словесной экземой. И при этом, потеряв с ночи интерес ко всему, не казался хоть сколько-нибудь пристыженным, что еще сильнее заводило восседавшую напротив стихию. Он стал воплощенной пустотелостью, решив в чугунном мраке отныне молча переносить удары судьбы. Генерал старался сохранять излюбленный равнодушно-насмешливый тон, но выходило у него теперь с перебоями.
– Что можно сказать о таком времени, – истово продолжало заглавие стола, – в котором вот такой юнец, – вилка высвободилась из колбасного бока и ткнула по направлению безвестного почтальона, – успевший послужить, повидать, место себе под небом подыскать, все остальное, так сказать, пощупать своими собственными окрепшими руками, – захлебывался генерал в разнообразиях перечисления, – в котором вот такой может поведать гораздо больше и дельнее, чем великовозрастный женолюб. И потолковать с таким одно удовольствие, и не помеха тут любая разница в возрасте.
– Интересно было бы послушать, – не удержался заметить Пилад, не поднимая головы. И удивлял…
– Да уж поинтереснее пересказов чужой галиматьи, всяких… – желчно передразнил генерал, так, однако, и не подобрав подходящего названия «всяким». И какое счастье (равно и досада), что Пилад не видел его лица. – Неплохой, в общем-то, на мой взгляд, показатель, когда вот этот молодой человек сам тянется, напрашивается, в хорошем, естественно, смысле, осознает… куда же, черт, запропастилась моя цигарка? А, вот она. Так, о чем это я? – продолжал багроветь генерал, свирепо туша резким махом от несуществующего козырька ни в чем не повинную спичку.
За словопрениями и ментальными извержениями шла настоящая война столовых приборов и закусок, беспрерывно подносимых безмолвствующей домработницей. Блестящие генеральские губы червями ползали между клубками желваков. Пилад пытался спасти свой беззащитный взгляд, снова опустив голову, но против своей воли уставился на не знающую сожаления руку с огромной пухлой кистью, стиснутой под основание манжетой рубашки. На безволосой лоснящейся пясти не проглядывало ни единого живого движения, словно пальцы шевелились без помощи сухожилий – чистые в своей одержимости.
Сжатый прежде голодной судорогой желудок расправился, дав знать о себе зыбкой волной тошноты. А генеральский мо́лодец, право, так жадно жрет. Чудится, готов примериться и к самому себе, лишь выпотроши – сделай милость.
– Так значит, – снова заговорил генерал, пытаясь сохранять выдержку над вазочкой с капустой и не замечая, что его рассматривают, – понимает без запинок вот такой, еще недавно мальчишка, что у старших людей много о чем можно полюбопытствовать. Покончив со своей гордостью и заносчивостью, еще простительной в таком возрасте, а уж ему-то, знаю, можно кое-чем похвалиться. Он понимает и не забывает навещать старого офицера, а своего потенциального зятя, – приуроченного к смачному плевку в пепельницу, – его я вижу впервые, хотя прекрасно знаю, что эту бестолковую интрижку моя родная дочь завела для своего развлечения уже почти с год назад. Или около того. Что само по себе, конечно, мне малоинтересно. Но сам факт… занимателен.
Продолжать в таком духе генерал мог, надо полагать, долго. В запале неоспоримости – той извечно присущ грех неоригинальности – он снова назвал Пилада «женолюбом», свято веря в недвусмысленную унизительность данного прозвища. Слабость этого пристрастия он упорно отстаивал, а отстоявшимся осадком щедро покрывал Пилада. Почтальон – которому, невзирая на его невероятные успехи, тронутые наглостью Пилада, генерал слова положительно не давал – этим временем продолжал сосредоточенно есть, посматривая то на своего благодетеля, то на его лохматого гостя, и принимался мелко посмеиваться, лишь только первый приготовлялся осклабиться.
И продолжал бы генерал поток своих развенчаний, но случилось непредвиденное. Во всяком случае, Пилад уже потерял всякую надежду, заразившись зловещим чувством, что останется в одной комнате с этими двумя навечно.
Открылась дверь, и вошла Вера, существование которой виделось уже исключительно выдуманным без всякой жалости образом, близким, но неприкосновенным. Возродилось из прогорклого пепла то чудесное утро, что не было предназначено ни для кого. Пилад поднялся и, покинув свое место, пошел. Пошел уверенно, не обращая внимания на застывшее в гримасе удивления лицо почтальона, на громкое, с нотками негодования и суровости приветствие генерала, призванное словно перекричать глухие ко всему шаги великовозрастного юноши, этого нерожденного старца. Все было забыто или прощено. Время цветов, а тление не преминет явиться в избранный по своему усмотрению момент.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу