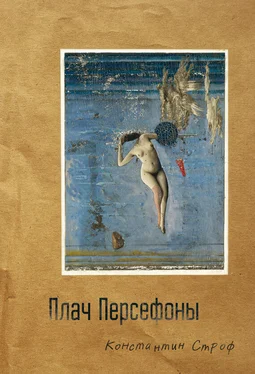Он робко наклонил к ней голову и без всяких слов поцеловал. Он делал это словно впервые. Поцелуев прежде сам не любил, зная, как слабы к ним все женщины. Но и это было забыто ради чистосердечного поступка нового рода. Совершив необдуманное, но смелое кощунство, он вдруг смутился, мгновенно различив похолодевшей спиной два пристальных, ненавидящих взгляда. И вдруг Вера прильнула к его губам, ко всему его телу и нежно положила руки ему на лицо.
Он жил. Но все вокруг потемнело.
10
Темнота пахла пылью. В ушах мелко жужжало. Случайные напоминания старого диапроектора, угловатого и тяжелого, согревавшего коленки в детстве, – недосягаемости, скоро таявшей под жаром пристального взгляда.
Просмотр диафильмов был для него (и еще для многих других в те годы) скудной, но увлекательно трудоемкой заменой мира мультипликации.
И теперь анимация закончилась, не успев прорисоваться всеми оттенками и запахами. И не была Верой. Нет, точно не она. Его лицо не помнило ее пальцев. Иначе, вероятно, не посмел бы облачить его однажды в безвозмездное колючее руно.
Вера всегда клала свои игрушечные ладошки ему на грудь, точно в любой момент была готова оттолкнуть, а если понадобится – вырваться и убежать. Их объятие в такие моменты всегда сквозило холодком деликатности, больше бы подошедшей воспитанным сиблингам. Нежина даже терзала временами несбыточная причудливая идея, что будь он и впрямь братом Веры, ему бы позволялось несравнимо большее.
Это была не Вера, это была Ольга, и за то ощущение, каким озарили кожу его лица ее теплые мягкие пальцы в самое первое мгновение их соприкосновения, Нежин почувствовал, что готов забыть все. В этот час – действительно все.
На непродолжительное – всегда неизмеримое – время оба провалились в сон. Непрочный и стремительный, как слаженные движения лап сороконожки. Знакомый всем любовникам. И некоторым любовницам. Пробуждение пришло безжалостно. Холодно и колко разлепились их тела. На животе у каждого осталось по неровному алому отпечатку, как две капли воды похожему один на другой. Правда, Ольга, не дожидаясь окончательной яви, заснула снова, но уже на этот раз настоящей, полноценной разновидностью сна. Напоследок она быстро пробормотала что-то неразборчивое и вряд ли относящееся к Нежину. Надломленный густым смешением недавних волнений, экзальтаций, воспоминаний, беспамятств, он сухо взглянул на свое распластанное тело. С такого ракурса оно было обречено смотреться неестественно коротким. Нежин украдкой задержался у себя между ног. Есть в той области нечто карикатурное. Живет там у мужчины крошечное сердце.
Еще раз пронзительно вгляделся в спящее лицо, тревожащее своей неподвижностью, Нежин поднялся и, не замечая холода, беззвучно вышел из спальни. Потешное светило озарило раковину, надтреснутый местами, древний, как сама память, кафель стены, зеркало, под невозмутимой поверхностью которого местами слезло серебро, и слабо узнаваемую личину в его застывших водах. Удовлетворив элементарные потребности полуночи, ванная снова опустела и погрузилась во тьму.
В свою старую комнату, казалось, обходимую уже кряду несколько лет, Нежин проник осторожно, бочком, стараясь не отворять полностью скрипучую, всегда несдержанную в радостях дверь. Обновленный, он, не торопясь, как делают дети в минуты наслаждений, прошел к столу и опустился на стул. Проведя несколько недвижных черно-белых минут, Нежин наконец зажег пыльную лампу, с дрожью обнаружившую все то же лицо в оконном стекле. Неприятно удивленный, он отпер средний выдвижной ящик и, воровато оглядываясь, полез в его раскрытое чрево. Фотографию, которую не без труда удалось извлечь из-под кипы бумаг и прочей мелкой бессмыслицы, он поставил на стол перед собой и опустил подбородок на сложенные руки, рассматривая забытую картину. Волнующееся море за голыми угловатыми плечами, покрытыми густым загаром, и его круглые кусочки, просочившиеся сквозь улыбающееся лицо вокруг растаявших в солнце зрачков. И эта улыбка незнакомцу, стоящему за кадром, доверчивая, обманчивая. Ей никогда удавалось до конца изобразить простоту.
Так за что подчас все это упоение? Словно мнимая благодарность светскому художнику, пока тот, устав от брезгливых лиц, хоров и заветных сюжетов, вдруг берется, ободряемый возгласами почтения, за вольный пересказ вакханалии. Но вот незадача: кисть этого не может, а о том и подумать страшно. И вот через три сотни лет перед доверчивым, падким на позолоту зрителем – полотно, в полутемных тонах неясно рисующее беснующихся полуобнаженных пьянчуг, сманенных по авторской прихоти из средневековой таверны в некую пантомиму. А предельное непотребство, доступное авторскому воображению, тащат на себе лишь неестественно разинутые пасти, должные, по всей видимости, пробуждать чуть ли не страх, когда губы сами непроизвольно тянутся в улыбке. Художник давно утихомирился и спит. Спят и его родные земли с собственными чудесами и преданиями, далекими от скрижалей и поучительных басен, не пугающие мучениями каждого зазевавшегося, а главное – их вечностью, знающими, насколько эта вещь не соотносима с человеческой природой, отнюдь не каждому спокон веков казавшейся жалкой и порочной. Редок живительный свет подлинных шедевров. Их неявное содержимое, кажется, обошло стороной времена и внимания – кажется не зря, судя по отсутствию насильственных окончаний в биографиях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу