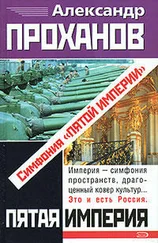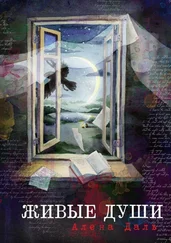Сарафанов вжался в сиденье, видя, как за окном, не отставая от «мерседеса», мчится огромный ликующий вихрь. Прижимает к стеклам расширенные хохочущие глаза, чтобы насладиться его поражением.
В клинике его встретил доктор Зуев, в белых одеждах, шапочке, понурый, виноватый, не глядя в глаза Сарафанову.
— Где она? — спросил Сарафанов.
Мать лежала в отдельной палате, очень белой, стерильной, среди белоснежных стен, на выбеленной кровати, накрытая белой простыней. Ее маленькая седая голова была серебристо-белая. Лицо, из которого утекла жизнь, казалось голубовато-белым, лунным. Сарафанов приблизился, чувствуя эту бестелесность, призрачность, потусторонность, в которой уже пребывала мать. Она находилась уже не в этой реальности, почти покинула это бытие, присутствуя в нем отпавшей от остальных волос седой прядкой, мерцающей каплей в уголке глаза, асимметрией сжатых, запавших губ. На этих губах застыло выражение недоумения, печали и огорчения. Будто перед смертью ее кто-то обидел, произнес в ее адрес грубое слово, и она умерла от этого слова, унесла в смерть огорчение.
— Как это было? — произнес Сарафанов.
— Лечение проходило нормально, — говорил Зуев, почти сливаясь со стенами своим белым облачением, не отбрасывая тени, сам подобный призраку. — Мы провели водные процедуры, употребив «структурированную» воду, с той же формулой, что и у Словенских ключей под Изборском. И проводили сеансы ультраволновой терапии, помещая ее в поле генератора, который работает на волнах молекулярного уровня, воздействуя на гены и блокируя «код старения». Показатели были отличные. Самочувствие Анны Васильевны улучшилось. Когда она лежала в барокамере и я подходил, чтобы справиться о ее здоровье, она, чтобы меня обрадовать и успокоить, читала наизусть «Медного всадника». Но случился этот непредвиденный сбой электропитания. Генератор, по всей видимости, на микросекунду изменил частоту, и эта «навязанная» частота запустила в организме Анны Васильевны «ген смерти», который мгновенно остановил сердце.
Зуев умолк, беспомощно глядя на неживое, накрытое простыней тело. А Сарафанов, не решаясь прикоснуться к матери, боясь своим порывом и горем спугнуть последние признаки ее присутствия в этом мире, представлял, как мать, помещенная в барокамеру, в стальной и стеклянный кокон, обвитая проводами, пронизанная лучами, билась, звала, выкликала сыновье имя. Тянулась к иллюминатору, надеясь перед смертью увидеть сыновье лицо. Поникла с упавшей, недотянувшейся рукой. Это он, Сарафанов, поместил ее в эту камеру. Запер ее в электронной темнице. Подключил к проводам и приборам, а потом выдернул розетку.
От белизны кружилась голова. Белизна была анестезией, которая превращала боль в головокружение, в лунатическое скольжение во времени. Давнишняя, незабвенная елка, жаркий, таинственный сумрак. Мохнатая ветка, на которой горит розовая дивная свечка, качается серебряный дирижабль. Мать не видна, но она здесь, среди дивных блесков и волшебных запахов, родная, молодая, чудесная. Ее руки выступают из тьмы, вешают на елку чешуйчатую стеклянную шишку…
Они идут с матерью по вечернему переулку. Синие сугробы, желтые высокие окна. Мать, стройная, сильная. Мех ее шубы стеклянно горит, у говорящих розовых губ трепещет облачко пара. Он смотрит на нее снизу вверх, поражаясь ее благородству и красоте.
Он смотрел теперь на ее ссохшуюся седую голову, ее беззащитный хохолок, холодную в глазнице слезу, и душа оставалась закупоренной, запечатанной, как горло кувшина, в котором глубоко что-то клокотало и билось.
Его рассудок не умел объяснить, в какой ужасный завиток мироздания он влетел, какая спираль его замыслов, направленных на добро и святость, привели к смерти матери. Каким страшным грехом он отмечен, если задумал имперское чудо, а оно сделало его неотмолимым преступником.
Он беспомощно думал, глядя на мать. За больничным окном сверкал остановившийся вихрь, наблюдал за ним весело и жестоко.
Он посмотрел на материнскую руку, бессильно лежащую поверх простыни. Пальцы были белые, без единой кровинки, в безжизненных складках. Форма ее ногтей повторяла форму его собственных, но одна из этих форм была уже мертвой, перенеслась в инобытие, а другая, его, еще оставалась в этом одушевленном мире. И глядя на ее неживые пальцы, с которых природа скопировала его собственные, он почувствовал, как его начинают душить рыдания.
Ему вдруг почудилось, что кто-то тихо тронул его за плечо. Прикосновение света исходило из верхнего утла комнаты. Там, где белизна сгущалась в едва уловимую тень, присутствовал Кто-то незримый, дорогой и нежный. Присутствовала его мать. Смотрела на него, сострадала. Ей было жаль дорогого несчастного сына, укорявшего себя в непоправимом деянии. Мать смотрела любящими глазами, бесшумно шептала: «Лешенька, мальчик мой ненаглядный, очень тебя люблю!» И этот бессловесный шепот, невесомое прикосновение прорвали запечатанное горло. Оттуда вырвался булькающий, клокочущий вопль, излились рыдания. Сарафанов кинулся к матери, обнимал ее маленькое тело, целовал холодный лоб.
Читать дальше