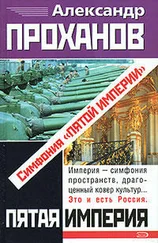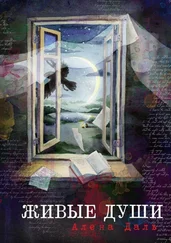— Спасибо. Буду тебе обязан.
— Мы обязаны тебе, Алексей Сергеевич. Наш коллектив помнит твое добро.
Мать готовилась к обряду крещения. Сиделка Лидия Николаевна прибралась в ее светелке. Вынесла прочь накопившиеся подушки, покрывала, тряпицы. Убрала бессчетные флаконы и лекарственные баночки. Облачила мать в светлую, из давнишних времен, шелковую блузку, нарядную шерстяную кофту. Расчесала, приподняла высоко на подушках. Мать, взволнованная, с пульсирующей жилкой на горле, выложила темные руки на пестрое покрывало, дожидалась священника. Январское утро белело за окном волнистыми снегами. Среди сугроба пушистая, дымчатая зеленела сосна, любимое дерево матери, к которому летом Сарафанов подвозил ее на коляске, и мать слабо трогала пушистые иглы, словно о чем-то уговаривалась с деревом, брала у сосны тайное обещание.
Отец Петр явился с мороза, большой, мощный, в плотной рясе и золотой епитрахили, с красивым сильным лицом и русой промытой, надушенной бородой. Благословил Сарафанова и сиделку. Заглянул в светелку, наполнив ее своим здоровым телом, запахом мороза, духов, кустистой бородой. Мать казалась маленькой, немощной, беззащитной, передавая себя во власть сильного, деятельного человека, собиравшегося совершить над ней таинственный и путающий обряд.
— Тазик какой-нибудь чистый с водой… Полотенчико… Ты, Алексей Сергеевич, останешься мне помогать… А ты, раба Божья Анна, косыночку сними… — распоряжался отец Петр, выкладывая из баульчика на столик потрепанный требник, кадило, церковные свечи, маленькие ножнички, пузырьки с маслянистой жидкостью. Большой серебряный крест сиял на его черной рясе, отражая заснеженное голубое окно.
Лидия Николаевна принесла алюминиевый таз, поставила на стул. Отец Петр запалил тонкую свечу, прилепил на край таза. Свеча тихо горела, отражаясь в воде. Сиделка вышла из комнаты и притворила дверь. Отец Петр раскрыл требник, собираясь читать.
— Нет, погодите… — взволнованно произнесла мать, останавливая священника слабым мановением руки. — Сначала я должна исповедоваться… должна признаться… Страшный грех… Всю жизнь меня тяготит… Потому и захотела креститься…
Отец Петр согласно кивнул, навис над ней пышной бородой, приготовился слушать.
— Перед войной, Алеша, я забеременела… — мать обращалась к Сарафанову, исповедовалась пред ним. — Отец твой ушел на войну… Я была малодушной… Думала, вдруг он не вернется… И я одна не смогу родить, воспитать… Страшный грех… Сделала аборт… Был мальчик, был бы твой брат, Алеша… Накликала две смерти… Одну на сына, отдала его на закланье… Другую на твоего отца, не верила, что вернется с войны… Вторую смерть кто-то отмолил… Твой отец весь в ранах вернулся, дал тебе жизнь… Ты бы, Алеша, мог прожить свою жизнь вместе с братом… — она говорила бурно, словно в горле ее клокотал бурун, и темная жила грозно дрожала, готовая разорваться. Высказалась, обессиленно откинулась на подушки, закрыла глаза. Казалось, стала еще меньше, бесплотней. Огромное, тяготевшее над ней целую жизнь, излетело, освободило ее, и от этого ее связь с миром стала еще бесплотней.
Сарафанов с горящей свечкой стоял, ошеломленный. Ему вдруг открылась огромная семейная тайна, о которой не догадывался. Всегда ощущал себя единственным продолжателем рода, баловнем, над которым бились две женщины, мама и бабушка, выхватывая его из болезней и напастей. Но оказывается, всю его жизнь где-то рядом, безымянный, невоплощенный, существовал его брат. Присутствовала его бесплотная тень. Сопровождала его в течение жизни, в житейских делах, в любовях, успехах и горестях. Когда мать, перестав говорить, сомкнула губы и утонула в подушках, эта тень мучительно метнулась по комнате, колыхнув пламя свечи. Вылетела в окно, где желтело январское солнце и на волнистых снегах лежали синие тени. Растворилась в беспредельном сиянии, сочетавшись с сонмом других.
— Начинаем обряд крещения, — возгласил отец Петр и раскрыл потрепанную книжицу. — О имени Твоем, Господи Боже, истины, и единороднаго Твоего Сына, святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на рабу Твою Анну, сподобящуюся прибегнут ко святому имени Твоему, и под кровом крил Твоих сохранится… — священник протянул большую, с сильными белыми пальцами руку и накрыл ею седенькую, беззащитную голову матери. Она покорно и устало сомкнула глаза, во всем полагаясь на волю окружавших ее людей, сотворяющих с нею неясный, пугающий обряд, в котором она уступала себя во власть огромных, безымянных сил, тех, что уводили ее из жизни земной, провожали в иную жизнь, неземную. От этой материнской обреченности, беззащитности, от ее покорности и смирения у Сарафанова заболела грудь и глаза затуманились голубоватой влагой. — Отстави от нея ветхую оную прелесть, и исполни ея еже в Тя веры, и надежды, и любве…
Читать дальше