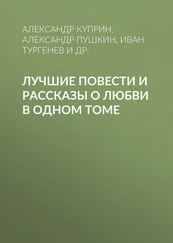Из сеней донесся грохот молочных бидонов. Потом дверь распахнулась, и девушка в толстых черных шерстяных чулках и высоко подоткнутой юбке принялась доить ту из коров, которая так и не перестав жевать, поднялась и глядела на девушку с вялым безразличием, словно следя за тем, чтобы все шло заведенным порядком. Шнабель видел, как брызнула в ведро белая струя, как Кеслер, схватив ковшик, зачерпнул из ведра и стал пить большими жадными глотками. Вновь завладело Шнабелем ощущение чуждости всего, что его здесь окружало. Но одновременно где-то внутри зазвенела струна, заставившая его вслушаться в себя, — как это с ним бывало только во время болезни, — в то время, как мысли его лихорадочно старались вернуться в свойственное им от природы трезвое деловое русло.
— Черт побери, что может быть лучше парного молока! — Кеслер протягивал ему вновь наполненный ковшик с белой шапкой пены. Шнабель выпил одним духом, преодолевая тошноту, которую вызвали у него теплое пенистое молоко, вид набрякшего коровьего вымени и неприятный запах хлева.
Потом они пошли обратно. В сенях шаги отдавались гулко, как в глубоком подземелье. Кеслер распахнул входную дверь. В сумерках снег казался серым, ветер почти совсем улегся, и склоны были похожи на взбитые перины, время от времени легонько поглаживаемые невидимой рукой. Шнабель набрал полные легкие чистого, слегка горьковатого воздуха. Прохаживаясь по дворику, его спутник продолжил начатый ранее разговор, словно бы он только прервался.
— Знаете, есть в этой местности что-то особенное, Здесь чувствуешь какую-то отрешенность от остального мира. Жизнь как бы заново приобретает смысл, и все становится на свое место. Иногда в Мюнхене я хожу по улицам и всматриваюсь в лица прохожих. Они любят, ненавидят, продают и развлекаются; как быстро человек забывает, что значит сидеть в бомбоубежище и трястись от страха! Знаете Шекспира? Трагическое рядом с комическим, — один мой коллега, известный художник, ночью пишет, а днем торгует сосисками… Лежа с исполосованной спиной, я, бывало, вспоминал здешние одуванчики или стакан молока.
Он умолк. Но, сочтя ответное молчание Шнабеля за вопрос, вновь заговорил.
— Я выкладываю вам тут всю мою подноготную, но ведь люди должны больше знать друг о друге, даже теперь… Многие ведь тогда понятия не имели о концлагерях. А может, и до сих пор не верят в их существование. Говорят, есть люди, которым только то и правда, что они испытали на своей шкуре. Вот оно как.
Он развел руками, словно не находя подходящих слов. Шнабель глубже засунул руки в карманы. Его так и подмывало расспросить Кеслера поподробнее. Ведь и он тогда смотрел и не видел, слушал и не слышал. «Может, спрашивать бестактно, — подумал он. — А вдруг он как начнет рассказывать, так и не остановится и мне придется слушать!» Невольно он поднял голову, Кеслер воспринял это как вопрос. Его часто расспрашивали, но этот немой вопрос, видимо, пришелся ему по душе. Во всяком случае, он остановился и попытался, несмотря на сгущавшиеся сумерки, заглянуть Шнабелю в глаза.
— Почему? Как-то один из нашего барака, живой скелет, кстати, известный писатель, сказал, что хорошие листовки писать труднее, чем хорошие стихи. Они напали на мой след, когда остальные были уже давно арестованы. И вот бывает же, что при самой неусыпной бдительности упускаешь какую-нибудь мелочь, а она-то и оказывается роковой. Нужно было бы напрочь отбросить все личное, вроде чувств и прочих сантиментов… Не заболей моя мать и не нуждайся она в деньгах, мне не пришлось бы покинуть свое довольно-таки надежное убежище. А может, и к лучшему, что все сложилось так, а не иначе. Зато в оставшуюся часть жизни видишь зорче.
— На вас донесли или?..
Шнабелю вдруг захотелось узнать больше об этом человеке. Он внушал ему симпатию благодаря той готовности, с которой распахивал перед ним душу. До сих пор никто не жаловал банковского служащего Шнабеля таким доверием. Да он и не нуждался в нем, упаси боже, и все-таки…
— Донесли? Бог мой, можно и так назвать. Тот человек тогда… Он просто выполнил свой долг, только и всего; конечно, получил за это поощрение, ну, уж это как водится. — Он умолк и ткнул носком ботинка в одну из снежных куч, громоздившихся сбоку от дома.
Шнабель переминался с ноги на ногу. Начало подмораживать, снег скрипел, как новая кожа.
— Во всяком случае, я уже не верил, что когда-нибудь все это кончится и жизнь пойдет своим чередом. Вы были в армии?
Читать дальше
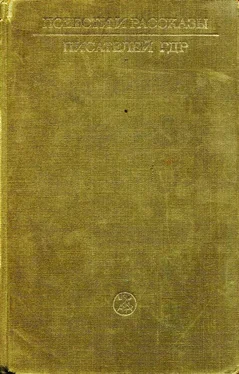









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)