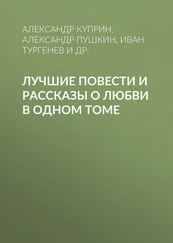— И только Вайс, Вайс, только он не ошибался, — шептал Холлерер. — Вайс, Вайс, Вайс, — бессмысленно бормотал он.
Вайс отравил веру, а вместе с верой — человека; Вайс расколол душу человека, раздвоил мужество, раздвоил трусость так, что трусы оказались мужественными, а мужественные трусами. Вайс всегда был дезертиром; он дезертировал в марте 1938 года, когда перешел к нацистам, и после этой войны снова перебежит в другой лагерь. Только теперь, хоть слишком поздно и слишком дорогой ценой заплачено, стало наконец ясно: жить на этом свете с Вайсом нельзя. С Вайсом надо покончить всюду — в своей стране, в своем доме, во всем мире, в собственной семье. Еще в мирное время надо было расправиться с Вайсом. Холлерер все яснее, все отчетливее сознавал: расправиться с вайсами, покончить с войной, признать и исправить кровавую вину перед лицом всего народа, обманутого, преданного вайсами, истерзанного, посланного на смерть.
Холлерер вытащил руки из меховой куртки. Откопал провалившийся в снег и примерзший к нему финский нож. Снял винтовку со спины; не выпуская ее из рук, приподнялся на локтях. Тут Вайс посмотрел наверх. Оба вскрикнули. Вайс схватил автомат, и Холлерер, заметив это, в то же мгновение прыгнул вниз; ослепленный и обожженный ярким огненным лучом, он упал на плотное, хрипящее тело. Вонзил нож. Вайс, стремясь уклониться, опрокинулся навзничь. Он широко раскинул руки, шаря по снегу, ища выпавший из руки автомат. Он пытался встать на колени, но снова валился, как мешок. Его отвратительные рыщущие пальцы коснулись ствола оружия и отдернулись, словно обожглись. Снова вытянулись, обхватили приклад. Холлерер, стоя на четвереньках бессмысленно смотрел на конвульсивные движения врага. Чем быстрее ворочается Вайс, тем скорей наступит конец. Нож по самую рукоятку торчал у него слева под ребрами. Вдруг судорога пробежала по его телу, оно вытянулось, недвижимое среди красного снега. Негнущимися пальцами Холлерер схватил автомат Вайса. Прошло много времени, пока он сумел поднять его и воткнуть в снег. Горячая кровь текла из свежей огнестрельной раны, к которой прилипла рубашка, Холлерер был слишком слаб, чтобы выпрямиться; с невыразимым трудом он повернулся и, тяжко дыша, рухнул плашмя на винтовку. Он бесконечно устал, но боялся уснуть. Если пойти прямо на юг, он дойдет до позиций русских через полтора дня. Дорога свободна. Почему его товарищи не пошли вместе с ним? Следовало поговорить с ними, не надо было их бояться. Ах, если бы не эта проклятая усталость! Засни он сейчас, ему никогда уже больше не проснуться. Кольмайер не верил им, он кричал и проклинал все на свете, когда они заботливо укладывали его на лыжи и осторожно несли на виселицу. И все же их надо любить. Несмотря ни на что — любить. Холлерер поднял голову, мигая, смотрел на мирный хоровод снежинок. И ему казалось, будто он идет. Он нашел новый путь. Он должен пройти его до конца. Надо взять с собой товарищей, нельзя допустить, чтобы они умирали, надо с ними поговорить. С этого дня он больше никогда не пойдет в одиночку. Холлерер не ощущал ни ветра, ни холода, ему было тепло и хорошо. «Что-то я сделал не так, в другой раз сделаю правильно», — думал он. Подбородок упал ему на грудь. Он бросил взгляд на мертвого Вайса, лежавшего с ножом между ребрами. Громко сказал:
— С этим я рассчитался.
И, прижавшись к винтовке, крепко уснул…
Снег покрыл мертвого и спящего, который больше никогда не проснется, чтобы все исправить.
Перевод Л. Лежневой.
Маргарета Нейман
СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНКИ
Она умирала медленно — изо дня в день что-то неприметно угасало в ней, — так медлит тот, кому нелегко дается расставанье. Она, собственно, не была так уж стара и вполне могла бы проявить еще десяток-другой. Только кто из женщин в их деревне доживал до старости? Вот разве что Лиза «Грибок», но эта-то, известно, за всю жизнь никогда не работала — ни на господских полях, ни на резке торфа, и мужа ей обхаживать не приходилось, и детей она не рожала, и за гробом их не ходила, и этак, сама для себя, прожив весь век, до того в своей избенке на опушке обомшела и скрючилась, что и не поймешь теперь, к кому ее причислить — то ли к деревенскому люду, то ли к зверью и бурьяну лесному.
Женщине, которая теперь умирала, можно было не бояться смерти. Ничего не оставляла она после себя неупорядоченного и неустроенного. Из дочерей ее четыре были честь по чести выданы замуж: одна — здесь же, в деревне, две — в соседних деревнях, четвертая, младшая, — в городе. Пятая, оставшаяся незамужней после того, как отец ее двойни сначала долго увиливал от свадьбы, а потом и вовсе смылся, вышла уже из девичьего возраста и могла заправлять домом, заботиться об отце и двух младших братьях, покуда те требовали ухода.
Читать дальше
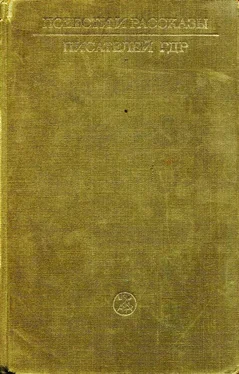









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)