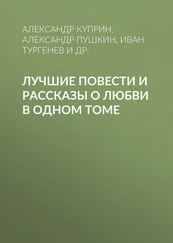Ульрих не выдержал.
— Вот наконец мы и добились своего! — не слушая Янцена, воскликнул он, и радость, звучавшая в его голосе, выдавала особый смысл, вложенный им в эти слова.
Несколько секунд Янцен удивленно и пытливо смотрел на юношу. Потом, видимо, сдерживая волнение, спокойным голосом возразил:
— Мы-то ничего не добились — добились другие!
И горечь этих слов, точно тяжелые капли росы, упала на взволнованное сердце Ульриха. От страха, что Янцен может оборвать на этом разговор и возвратиться в землянку, оставив здесь его одного, Ульрих стал быстро рассказывать, как он подслушал разговор Янцена с его товарищами. Еще раз испытующе взглянув на Ульриха, Янцен решился и заговорил открыто.
— Нет, Ульрих, — сказал он все с той же горечью, хотя в голосе его звучала теплая нотка, — к сожалению, мы ничего не сделали, ровно ничего. До последнего дня мы только исполняли приказы, порой, может быть, с отвращением, но возмутиться ни разу не возмутились. На учениях тупо проделывали все, что от нас требовали. Собирали крапиву для кухни, когда нечего было жрать, и — что гораздо хуже — молчали, когда на наших глазах расстреливали людей за украденный кочан капусты или несколько картофелин. Наших товарищей, падавших от голода, почти уже мертвецов, доставляли в госпиталь, а в это время в офицерском собрании устраивались балы и пьяные офицеры кормили тортами своих лошадей. Не возмутились мы и тогда, когда мимо нас проносили в лазарет из концентрационного лагеря полумертвых, похожих на скелеты заключенных — немцев или местных жителей. Их поворачивали с боку на бок на койках, потому что сами они не в состоянии были повернуться. Все это мы сами видели или слышали об этом — и молчали, никто из нас не крикнул: «Довольно! Хватит!»
Янцен весь горел от возбуждения. В таком состоянии Ульрих его еще не видел, и это возбуждение передалось ему. «Нет! Нет!» — хотелось ему крикнуть, так страшно было слушать эти речи, так немилосердно душили они первые, еще робкие вспышки радости от сознания, что пришел наконец час освобождения. Ульрих вдруг почувствовал, как дорог ему этот человек, и ему, юноше, захотелось утешить своего старшего товарища:
— Что же вы могли сделать? (Он не осмелился причислить себя к этим «вы».) Ведь вы были слишком маленькой горсточкой, вас поставили бы к стенке — и тогда что же? Опять все пошло бы по-старому, а может быть, стало бы еще хуже прежнего.
Янцен нетерпеливо отмахнулся:
— Не надо, Ульрих, надгробных речей. Какой в них смысл? Мы ничего не сделали, — значит, не мы завоевали эту победу. И то, что она завоевана не нами, мы будем чувствовать еще долгие и долгие годы.
Опять на просеке послышались шаги: смена патруля. Янцен молча смотрел вслед ретиво шагавшим солдатам. Он не произнес больше ни слова, лишь немым жестом показал на спины исчезавших в ночи караульных. И он и Ульрих знали — здесь все держится на насилии: хорошо смазанная, налаженная машина, пусть и утратившая смысл своего существования, продолжает действовать, даже сегодня, девятого мая, в день освобождения. Точно ничего не произошло…
Когда Янцен и Ульрих вошли в землянку, Вебер, Дилленберг и Брем в тусклом свете догорающих свечей сидели за столом и играли в скат…
Перевод И. Горкиной.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО [8] Действие рассказа происходит в Западной Германии в день, когда боннское правительство запретило КПГ.
Для Фрица Бремера, рабочего завода металлических изделий, пятидесяти одного года от роду, 17 августа началось радостно. Это был предпоследний день его отпуска. Когда он, еще лежа в постели, взглянул в маленькое оконце летнего домика на окраине города, где они с женой проводили жаркие месяцы, то с удовлетворением отметил, что солнце сияет вовсю и сулит чудесный день. Сегодня это особенно кстати, так как у него пропасть дел. Надо починить забор, отделяющий его огород от соседнего участка, — давно уж пора это сделать, — надо поработать на огороде, и, наконец, хорошо бы почистить мотоцикл. Бремер был человек трудолюбивый и делал все основательно, по системе. Бездельничать, убивать время было для него немыслимо. Поэтому он всего несколько минут потягивался в постели, предвкушая напряженный, заполненный день, а затем, — было только шесть часов, и жена еще спала, — вскочил на ноги, умылся у колонки, собрал свой инструмент и, даже не позавтракав, принялся в это раннее утро, по-летнему благостное, тихое, оглашаемое только птичьим гомоном, за починку забора.
Читать дальше
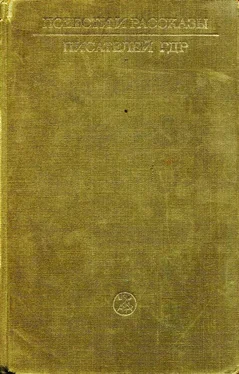









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)