Утешали разве что события настоящего времени. Чарльзова жизнь сделалась столь несуразной, превратилась в такую смесь усталости и неуемной, кипучей энергии, расчетливой хитрости и юношеской прямоты, присутствия и отсутствия, что старик вселил в меня надежду, которую едва не отняли тетради. Недавний случай у него дома, к примеру, представлял собой превосходный материал для книги. Насколько я понял, Льюис запер его в гардеробной не в качестве наказания, а для того чтобы защитить и не позволить вмешиваться, пока сам дрался в спальне с другим мужчиной. Этот мужчина некогда работал у Чарльза. Я спросил у старика, зачем он приходил, хотя и догадывался, что Чарльз пригласил его в качестве возможной замены Льюису. Уже зная, что Льюис — просто воплощение ревности, я ясно представлял себе, какую вспышку ярости может вызвать у этого ленивого насмешника любая попытка ему насолить. Однако, если Льюис отстаивал в драке свою глубокую привязанность к Чарльзу, почему же он тогда пытался напустить на старика порчу посредством мальчишеских манипуляций с чучелом? Сам-то Чарльз понимал смысл этого поступка и считал его таким же симптоматичным, как и прочие многочисленные проделки. Когда старик проснулся, мы спустились на кухню и заварили чай, после чего он стал локти себе кусать. «Это непременно должно было случиться», — взволнованно сказал Чарльз. Но толком ничего мне объяснить не сумел. «Льюис был чертовски хорошим, смелым боксером», — то и дело твердил он.
Зазвонил телефон. Взяв трубку, я услышал неестественно сдержанный голос:
— Это Уильям?
— Слушаю.
— Сейчас с вами будет говорить лорд Беквит.
Прошло секунд тридцать, прежде чем трубку взял мой дед. Он заделался такой важной персоной, что стал поручать слугам даже самые простые дела. Его исполнительный, лишенный чувства юмора дворецкий, почти такой же старый, как и он сам, принадлежал к фактически вымершему поколению слуг, задыхавшихся от собственной корректности. Ему бы и в голову не пришло запереть хозяина в его гардеробной. Тем не менее, поручение набрать мой номер было дано ему впервые, и я с легким беспокойством ощутил ту холодность, которую в пору, когда дед был членом правительства и судебным лордом [83] Один из пэров, рассматривающих апелляции в палате как суде последней инстанции.
, наверняка почувствовали тысячи людей.
— Уилл? Как поживаешь, милый?
Это была другая сторона его величия — непритворная сердечность и обаяние, которые в большей степени, чем способность командовать, свидетельствовали о могуществе и преуспевании. Его ласковые обращения были признаками не влюбчивости и изнеженности, а мужественности, как у Черчилля, и вызывали у собеседника ощущение избранности, собственной важности. Обращение «милый» он произносил не публично, как это принято у кокни и у нас, гомиков, а так, словно оно было некой неофициальной наградой — воодушевляющим знаком доверия.
— Дедушка! У меня всё отлично… а ты-то как?
— Жара немного донимает.
— Неужели у вас там так же жарко?
— Понятия не имею. Пожалуй, еще жарче. Слушай, до конца будущей недели я в городе… может, сводишь меня куда-нибудь пообедать?
— Ты уверен, что не предпочел бы сам меня куда-нибудь пригласить?
— Всегда я тебя приглашаю. По-моему, мы могли бы в кои-то веки изменить ситуацию. Я бы предложил пообедать у тебя в Холланд-Парке, но ты, кажется, не умеешь готовить.
— Да, совсем не умею. — По обыкновению, мы просто переливали из пустого в порожнее — застенчиво, в грубовато-добродушной манере. — Ты бы горько пожалел. Я поведу тебя в какой-нибудь очень дорогой ресторан.
А кроме того, я испытывал всё возрастающую потребность в уединении. Я почти перестал принимать гостей и бывать в обществе. После того как дед по существу купил мне эту квартиру, любое проявление интереса к ней с его стороны я стал расценивать как личное оскорбление. Он не был в ней с тех пор, как ее покинул предыдущий владелец. За нашей шутливой болтовней крылось осознание того факта — о котором ни один из нас никогда не стал бы упоминать, — что дед уже истратил свои деньги на меня. «За такую уютную квартиру и заплатить не грех», — откровенничал он.
Вернувшись потом к дневникам, я обнаружил, что в них произошли изменения: кое-где бросались в глаза длинные записи, но ни в одной из тех двух или трех тетрадей, которые я изучал, не рассказывалось ни о каким-либо особенно запутанном случае, ни о событиях, произошедших за несколько дней. К тому же записи делались нерегулярно, и промежутки между ними порой составляли больше недели. Довольно длинные абзацы, иногда начинавшиеся с рутинного описания, сменялись пространными, как повесть, воспоминаниями. Среди таковых, как я сразу определил по знакомым названиям, были воспоминания о периоде учебы в Винчестере, хотя и написанные во время путешествия в Нуба-Хиллз. Я представил себе, как Чарльз, покинув компанию своих неотесанных спутников, удаляется к себе в палатку и садится за маленький складной столик, чтобы среди африканских валунов и колючих кустов воссоздать очередной эпизод из своей жизни в Англии.
Читать дальше
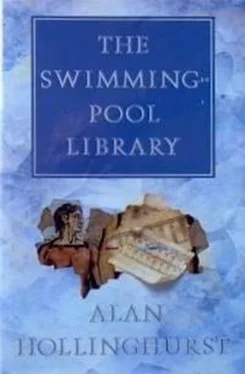
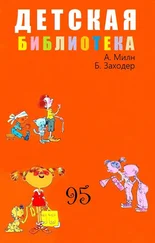


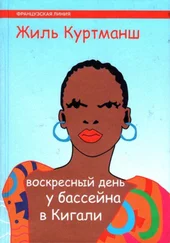
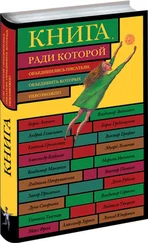


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


