Алан Холлингхерст - Библиотека плавательного бассейна
Здесь есть возможность читать онлайн «Алан Холлингхерст - Библиотека плавательного бассейна» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Библиотека плавательного бассейна
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Библиотека плавательного бассейна: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Библиотека плавательного бассейна»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
1988
Библиотека плавательного бассейна — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Библиотека плавательного бассейна», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Только тут я и позволил себе осмыслить эту новость, вернее сказать, впасть в оцепенение, ибо она переполнила меня нестерпимой болью, а когда Таха вышел из дома, надев — я это знал — свою нелепую широкополую шляпу, внутри у меня вдруг словно что-то оборвалось, я стал судорожно глотать воздух, по щекам покатились слезы, вся комната с ее мебелью, картинами и книгами каким-то образом сделалась сырой и душной, насквозь пропитавшись убожеством. По правде говоря, сообщение о любой свадьбе — даже если новобрачные очень дороги мне и идеально подходят друг другу — неизменно переполняет меня беспросветной тоской; она может развеяться через несколько дней, хотя и не раньше, чем возникнет прочное ощущение — нет, не начала чего-то нового, а безвозвратной утраты чего-то невинного и привычного. А если это невинность моего любимого Тахи… У меня было такое чувство, будто он умер — или того хуже, каким-то чудом перенесся в некую иную стихию. Казалось, я смотрю в полевой бинокль и вижу, как Таха пляшет и поет где-то так далеко, что, когда он открывает рот и шевелит губами, ни один звук не нарушает тишины.
Я всё ходил и ходил по комнате, то справляясь со своими чувствами, то снова им поддаваясь. Иногда я останавливался перед хризантемами, которые он поставил в высокую вазу эпохи Тан, раньше стоявшую в прихожей в Полздене. Цветы были само совершенство, без изъяна, пышные, но жесткие и глянцевитые; цвет больших, растущих кистями головок напоминал об осени, хотя листья еще зеленели. На первый взгляд цветы казались искусственными, покрытыми лаком, и лишь сдавив их или смяв лепестки, можно было доказать, что они живые и тленные. Я снова и снова с болью вспоминал о том, что произошло несколько минут назад, сознавая, с каким безграничным почтением Таха, так сказать, преподнес цветы и попытался скрыть собственное волнение. В очередной раз проявив чуткость и проницательность, он старался не задеть моих чувств, хотя с трудом сдерживал собственные. К тому же вскоре я понял, почему он так нервничал и развязно вел себя в течение последних нескольких дней: к его радости наверняка примешивалось дурное предчувствие. И тогда хризантемы — подобно многим неодушевленным предметам, приобретающим преувеличенное значение в критические минуты, — поплыли у меня перед глазами, словно превращаясь в символы его многолетней преданности и одновременно в праздничные предвестия его будущего, не то элегического, не то безжалостно блестящего.
Взяв себя в руки, я зашел в кабинет и залпом выпил большой стакан виски. Потом попытался заняться чисто механической работой — продолжить чтение корректуры своей книги о Судане, но, разумеется, даже цифры обычной статистической таблицы напоминали, казалось, о моем милом Тахе, о нашем совместном прошлом, и заставляли перебирать в памяти самые уязвимые места, самые светлые минуты, примеры бескорыстия и взаимопомощи. Быть может, всё это в некотором смысле воодушевило меня — ибо я выписал ему чек на 200 фунтов, потом одумался и заменил его другим, на 100 фунтов; потом порвал оба чека, выписал еще один, на 500 фунтов, положил его в конверт и торопливо поднялся в мансарду, чтобы оставить в комнате Тахи. В эту комнату я захожу очень редко — и потому с трудом воздержался от сентиментальных фантазий с поглаживанием подушки. Обстановка напоминала мне одну из комнат в Судане, ведь здесь нет ничего, кроме кровати, покрытой прекрасной шалью, коврика на дощатом полу и столика с фотографией Мурада, а также еще одним снимком, сделанным у входа в Суданский Клуб перед нашим отъездом из Хартума: мы с Тахой стоим рядышком и улыбаемся, щурясь от солнца. Но смотреть на этот снимок было тяжело; я поспешно вышел из комнаты. Даже такие простые вещи, обычно поднимающие настроение, восставали против меня.
Скоро произойдут большие перемены, о которых я еще даже не задумывался, которые не могу себе представить. Останется ли Таха у меня, захочется ли им здесь жить? По-моему, Нири живет с матерью и престарелым дядюшкой где-то на западе города… Я подумал о том, какое потрясающее великодушие придется мне проявлять, и, осознав, что не сумею сохранить самообладание, если увижусь с Тахой так скоро, вышел из дома, выпил еще пару стаканчиков в «Уиксе», а потом, под вечер, ноги вдруг сами понесли меня по направлению к «Сортиру Кларксона». Это было весьма кстати: я нуждался в каком-нибудь наркотике, в каком-нибудь бездумном развлечении.
Разбитую лампочку уже заменили, и там было довольно светло. Слева я увидел какого-то коммерсанта в плаще, а справа — того худого нервного паренька, что постоянно там торчит, стоя «на стрёме». Он напоминает мне университетского слугу, который заботится о том, чтобы никто не мешал джентльменам наслаждаться жизнью; думаю, в качестве вознаграждения он получает сомнительное удовольствие от увиденного. Я занял место посередине и постоял немного без дела, постепенно утрачивая возникшее было желание ждать, а потом послышались знакомые шаги, похожие на цоканье подков, вошел Везунчик Браф и поспешно, под влиянием форс-мажора, занял писсуар справа от меня. Он деловито помочился, пустив невероятно мощную струю — наверняка очень долго терпел, рассчитывая произвести впечатление (напрасная надежда!) обыкновенного посетителя туалета, — и некоторое время, словно взвешивая, подержал свой огромный прибор на ладони. Очевидно, нам следовало бы уйти вместе, но, зная, насколько он привязчив, я застегнул брюки, вежливо попрощался, прикоснувшись к шляпе, передал привет его жене и удрал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Библиотека плавательного бассейна»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Библиотека плавательного бассейна» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Библиотека плавательного бассейна» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
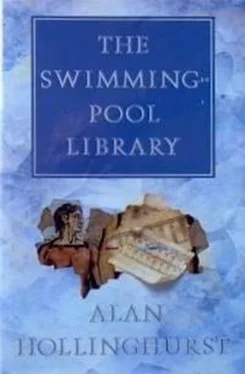
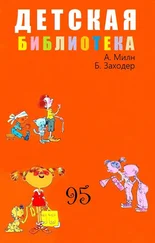


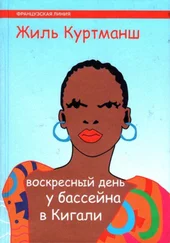
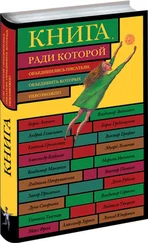


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


