Как ни странно, всего за несколько недель в мою жизнь уже дважды вторгалась полиция. После истории со скинхедами полицейские приходили в больницу, а я побывал в участке и просмотрел фотографии. Несколько страниц со снимками бритоголовых преступников представляли собой нечто сюрреалистическое: все, кроме субъектов с наколками на лбу и на шее из кожи вон лезли, чтобы выглядеть одинаково. Подобно бедолагам из журнала «Апдейт», в объектив они смотрели дерзко, со странной смесью гордости и отвращения. Я злился и очень страдал, но при этом опасался, что, найдя виновных, дам толчок всему механизму судебного преследования. А полицейские были деловиты и собранны: они мужественно боролись с преступностью. Однако они не торопились проявлять дружелюбие, были не настолько легковерны, чтобы безоговорочно принять мою сторону. Да и как я вообще оказался в «Сандберне»? Упоминать об Артуре я не мог и потому отвечал не вполне определенно, пытался юлить, а то и отмалчивался, показывая на забинтованную голову. Потом, в участке, мне задали на удивление много других вопросов и рекомендовали не требовать к себе особого отношения. И только некий старший офицер, узнав, что мой отец носит титул «почтенный», догадался, что это напрямую связано с моим дедом, и поинтересовался, не состою ли я «случайно» в родстве с бывшим директором государственного обвинения [168] Главный прокурор; выступает в качестве обвинителя по всем важным делам.
, которого он хорошо помнит, после чего наконец смягчился, превратившись в осторожного подхалима. Но больше всего ужасало то, что в обществе полицейских я чувствовал себя еще менее защищенным, чем прежде, и озлоблялся до озверения; когда я волновался за Джеймса, мною вновь овладело такое чувство, что на меня вот-вот кто-нибудь набросится. Ради того чтобы успокоить его и показаться уверенным, я скрыл свое вульгарное желание узнать, что случилось. Теперь же мне и самому не мешало бы успокоиться.
Дневники Джеймса всегда читались с интересом, и в Оксфорде я даже не пытался делать вид, будто не знаю их содержания. Ныне он вел записи уже не столь регулярно, зачастую с большим опозданием, да и возможность прочесть их представлялась мне всё реже. Это вызывало досаду, ведь для меня особая прелесть дневников была в том, что они содержали много увлекательных записей обо мне. Читать о себе как о предмете обожания — «Уилл великолепен», «Уилл выглядел потрясающе», — всегда было лестно, хотя и несколько рискованно: складывалось впечатление, будто стоишь на пороге комнаты, где говорят о тебе. Подчас, перевернув страницу — «У. невыносим», «Ну и подонок! Совсем не считается с моими чувствами», — я был вынужден взглянуть на себя другими глазами — как если бы неожиданно выяснилось, что один мой довольно близкий знакомый живет двойной жизнью: обаятельный белокурый супержеребец, которого я так любил, на самом деле оказался ничтожным богатым эгоистом, самовлюбленным, избалованным и даже — как было язвительно сказано по поводу одного случая — «чудаковатым».
Всё это было не так уж и безобидно. Как и все прочие дневники, этот тоже предназначался для читателя. Когда Джеймс был без памяти влюблен в этого паршивца Роберта Смит-Карсона, тот, прочтя посвященные ему страницы, был одновременно польщен и встревожен вагнеровским пафосом отдельных записей (целые абзацы состояли из бредовых восклицаний: «Weh! Weh! Schmach! Sehnsucht!» [169] «Увы! Увы! Позор! Тоска!» (нем.).
— и так далее). Другие места были полны темной библейской страсти: один пассаж, начинавшийся словами «Бедра его подобны бронзовым вратам», я потом собственноручно снабдил восклицательными знаками. При этом многие записи делались с расчетом на то, что их прочту я, а затейливая откровенность дневников позволяла Джеймсу (который всегда терпеть не мог злых слов и споров) скрывать этот факт и в то же время высказывать всё, что он обо мне думает. Мы с ним разыгрывали тайную шараду — шараду, в которой ключевым было слово «тайна».
Эти неприметные тетради с темно-бордовыми корешками, залитые спиртным, потрепанные и изогнувшиеся, занимали часть совершенно особой полки, где стояли книжки Фербанка — первые издания карманного формата с их золоченым тиснением или рваными суперобложками, вдобавок обернутые целлофаном. Теперь, когда и мне довелось прочесть эти книги, я посмотрел на них с гораздо большим интересом — «Каприз», «Тщеславие», «Влечения», правда, «Растоптанного цветка», увы, не было, — и ободряюще похлопал их по корешкам. В стороне от них, строго на своем месте, стояла последняя тетрадь дневника, уже ставшая достоянием истории, хотя и заполненная только наполовину. Почти профессиональный читатель чужих разрозненных записок, я взял свою кружку кофе и уселся в кресло, намереваясь выяснить, что произошло за последнее время.
Читать дальше
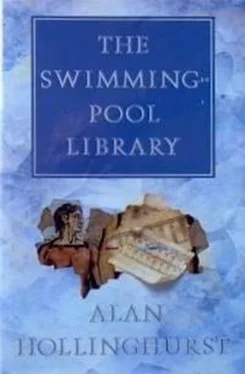
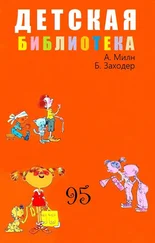


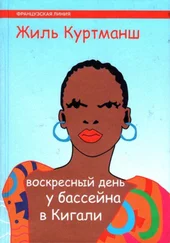
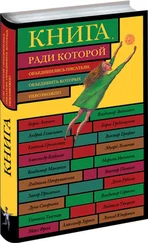


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


