— Я думал, это свойственно и тебе.
— Ну, в какой-то степени… но я не сажусь писать об этом таким загадочным, высокопарным языком. В тексте нет ни малейшего намека на то, что старина Чарльз хоть раз добился благосклонности кого-нибудь из этих представителей местных племен, носильщиков и прочих туземцев.
— По-моему, тебе следует освежить кое-что в памяти, дорогой. Согласись, вряд ли районный уполномоченный стал бы разъезжать повсюду верхом на своем верблюде и потягивать подчиненных. Знаю, ты поступал бы именно так, но правительство, скорее всего, отнеслось бы к этому с неодобрением.
Я комично оскалил редкие зубы в стыдливой улыбке.
— Фактически я работал бессистемно, — снова признался я. — Читал понемногу то там, то сям — хотел лишь выяснить, насколько это всё интересно, понять, по силам ли мне эта задача. При одной мысли, что придется написать толстенную книгу, страшно становится. Разумеется, — добавил я, — у меня тут не всё. Последние записи в дневнике датированы, кажется, пятидесятым годом.
— Как по-твоему, он еще ведет дневник?
— Не знаю. Возможно. Он полон энергии, хотя очень стар, да и, строго говоря, не в своем уме.
— Сейчас он, наверно, пишет о тебе… о персиково-кремовом цвете лица… который скоро восстановится… о складной фигуре. — Я замахнулся на него диванной подушкой и тут же схватился за бок. — Персонаж, описывающий своего биографа… Дело становится довольно запутанным, — сказал он, нахмурившись, и встал, собравшись уходить.
Как обычно, Джеймсу удалась роль воспитателя, и через некоторое время, когда пришел Фил, я, уже углубившись в чтение дневников, без особого интереса выслушал его рассказы о Пино, о гостиничном лифте и о том, как к нему приставала парочка голубых постояльцев. Он достал из пакета кусок телятины, спелые персики, бутылку вина и — опять — хлеб. Видимо, он считал, что слова «хлеб насущный» следует толковать в буквальном смысле.
Я смотрел, как он ходит по комнате и понемногу наводит порядок, как аккуратно складывает в стопку разбросанные Чарльзовы тетради. При всей своей беспросветной заурядности, при всей замкнутости этот крепко сбитый парень делал успехи. Он развивал в себе способность наращивать мускулы, становиться сильнее, красивее. Я еще мог восстановить в памяти то впечатление, которое он произвел, когда впервые пришел в «Корри»: обычный сырой материал, весящий чуть больше нормы, необщительный. А теперь он с каждой неделей менялся к лучшему. Преображалась даже походка: бедра, делаясь более массивными, терлись при ходьбе друг о друга, и ему приходилось шире расставлять ноги, слегка выворачивая их носками внутрь. В результате его задница казалась еще более доступной, чем раньше, оттопыренной навстречу руке ухажера. Пока я был олицетворением бессилия, огромное утешение мне приносила возможность попросту прикасаться к Филу, напоминавшему при этом изваяние с одной из тех выставок скульптуры, которые устраивают для инвалидов. Всегдашний грубый натиск сменился в наших любовных утехах робкими ласками и деликатным обращением. Казалось, мы оба поражены какой-то ужасной болезнью, вызывающей отупение, и потому вынуждены всё придумывать заново.
— Все еще читаешь эти тетради? — сдержанным тоном спросил он, подойдя, усевшись на пол рядом с моим стулом и нажав на кнопку телевизионного пульта. Скорее всего, он имел смутное представление о том, что это за тетради, и считал меня снобом, предающимся некоему утомительному, бессмысленному занятию.
— Тенниса не будет, — сказал я, когда на экране под оптимистическую легкую музыку появилась заставка с изображением корта.
— Тебе нравится кто-нибудь из теннисистов? — спросил он.
— По-моему, в теннисе меньше эротики, чем в любом другом виде спорта, — беззастенчиво соврал я, — включая детскую игру в шарики и разведение голубей. Выруби, пожалуйста.
Фил сильно ударил по кнопке и, как мне показалось, подавил желание резко, остроумно ответить, вспомнив, что к выходкам больного следует относиться терпимо. Он сидел опустив голову, пока я не протянул руку и не погладил его сбоку по шее. Потом приподнял ему голову за подбородок и провел пальцами по лицу. Когда я закрыл ему рот ладонью, он на миг прильнул к ней губами — вероятно, я был прощен.
— Сегодня обойдемся без телека, — сказал я. — Хочу тебе почитать. Прошу извинить за временную шепелявость. Наш герой как раз приезжает в Порт-Саид, а с ним трое довольно привлекательных юношей — Харрап, Фрейер и… гм… Стерн. Все носят панамы и слишком много одежды. Дата — двенадцатое сентября двадцать третьего года.
Читать дальше
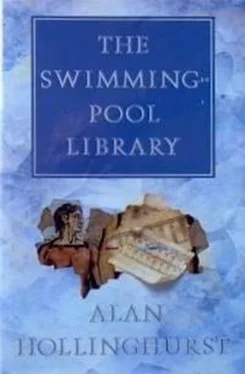
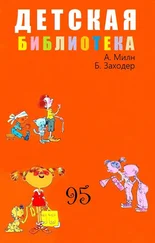


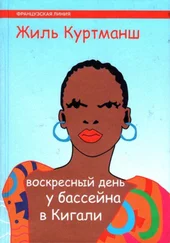
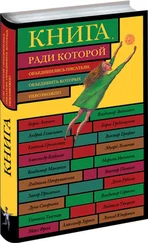


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


