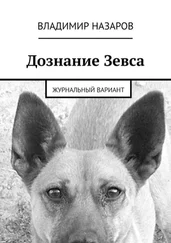Как только мы с Верёвкиным выехали на трассу, прямо перед нами встала стена дождя. Тут нет никакого образа, стена была сплошной и буквальной. Такого обвала ни до, ни после я в жизни не видел. Природа не хотела терпеть меня за рулём…
Иногда на васкеловской даче гостила и Олина мама, Маргарита Михайловна, с которой Ира тотчас задружила и заезжала к ней иногда прямо с работы, попить чаю и коснуться прошлого…
Маргарита Михайловна, урождённая баронесса фон Левенштерн, была родом из шведских дворян. Отец её, Олин дедушка, занимал высокий пост в железнодорожном ведомстве, курируя ветку Санкт-Петербург — Москва. В то время семья Левенштернов занимала огромную квартиру в шестиэтажном доходном доме по Кирочной, 20. В наши дни у Маргариты Михайловны была лишь небольшая вытянутая комнатка, а её бывшая квартира превратилась в многонаселённую и разноплемённую коммуналку.
Когда началась Первая мировая, петербургским шведам было предложено либо эмигрировать из России, либо принять русские фамилии. Причём не из головы, а от вымирающих к ХХ веку родов. Родителям Маргариты Михайловны было предложено на выбор три — одну мы с Ириной забыли, а две запомнили: Ленины либо Оленевы. Последняя наследница фамилии Лениных отказалась от продолжения, пожелав своему роду безымянно угаснуть, и фон Левенштерны превратились в Оленевых.
Вскоре после революции отца Маргариты Михайловны безвозвратно арестовали, а после убийства Кирова её с матерью сослали в деревню Акуловка, где она училась обходиться без прислуги и где её встретила бывшая фрейлина двора оптимистическим пожеланием:
— Не расстраивайтесь, моя дорогая, мы научились здесь делать коклеты!..
За чаем Маргарита Михайловна вспоминала, как попала в детский дом, где кормили одним пшеном, а нательные крестики детдомовцы прятали, чтобы получить вафельное полотенце, и тот же крестик прятать уже в него; увидев у ребят «нашейное украшение», детдомовское начальство тут же его отбирало.
— О том, что у неё рак, — сказала Таня Кирсанова, ставшая Олиной компаньонкой в последнее после переезда в Москву и Сашиной смерти одинокое время жизни и ездившая к ней из Петербурга, — Ольга узнала в конце 1999 года. И не сообщала об этом никому до последней возможности. В 2000-м она пошла на операцию и сказала, что операция не онкологическая, а бытовая. Что надо было удалить, удалили, а ей не лучше, а хуже… В октябре пришли в тот самый институт Герцена (но не Александра Ивановича, а Петра Александровича, которого мы не знаем, хотя он был знаменитым онкологом), стали делать сканирование. Дверь в кабинет была приоткрыта, больные смотрели и сказали: «Когда всё здорово, аппарат показывает — темно, как на негативах…» А тут все замерли — видят, что всё — белое. Почему не сканировали до операции — никто не сказал, потому что прозевали рак костей… От костей-то всё и началось — ноги болят, руки болят… Она стала делать завещание и беспокоиться о собаках; вы знаете, она взяла дворовых… Говорит мне: «Бросай, работу, поехали в Испанию», — у них там с Сашей были апартаменты. Я говорю: «Ольга, мне ничего не надо, я и так для тебя всё сделаю... И город тебя помнит и любит…» Я её переворачивала и перетаскивала на руках по всей квартире, и до конца… А собаки, вы знаете, все дворняги. Сперва она кормила их во дворе, потом взяла домой только Рыжку. Малка и Рыжка жили как муж с женой. Потом добавились их дети.
Ольга была очень умна. Умнее всех своих мужчин, которые страшились оказаться вблизи глупее неё. Это было «горе от ума». Только роль Чацкого досталась ей, а не любому из них. Мужья тоже были, но, как выяснилось, компромиссные. Любимый был один, теперь он тоже умер; имени его я вам называть не стану…
6.
9 сентября 2004 года я позвонил в Москву и сказал:
— Стасик, ты будешь смеяться, но через пять часов я лечу в Японию.
Рассадин смеялся, пока я не продолжил:
— Это — гастроли. И я сыграю там «Русалку»...
— Красиво, — оценил он и спросил: — Что же ты, сукин сын, всё время молчал?!
— Чтобы не сглазить. Чтобы не спугнуть рифму. Двадцать один год с прошлой поездки... Мы принимали японцев, а они принимают нас.
— Кого нас?
— Пушкинский центр, кого же ещё!.. Мы везём «Русалку» и «Историю села Горюхина». Два пушкинских спектакля!
— Красиво, — повторил он.
После того как появился роман «Ностальгия по Японии», в повторной поездке был новый смысл.
— Где будете играть?
— В Токио, в театре «Ко-ге-ки-джо»...
Читать дальше

![Владимир Санин - Приключения Лана и Поуна. Повесть [журнальный вариант]](/books/28538/vladimir-sanin-priklyucheniya-lana-i-pouna-povest-thumb.webp)
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
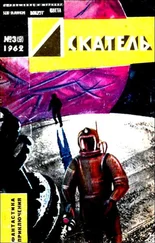

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/182775/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal-thumb.webp)