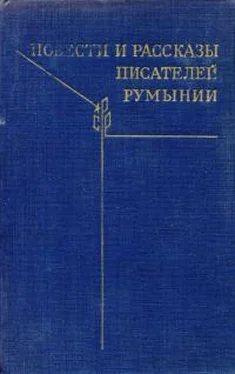— Ты, может, хочешь сказать, одалисок, — поправил его боярин.
— И кобыл, и одалисок! — горячился грек, не допуская мысли об ином происхождении лошади.
Ничего не могли от него добиться, кроме свирепых протестов, клятв и проклятий.
— Спроси его, боярин, — тут поп дипломатично спрятался за спину хозяина, — а не осталось ли хоть самой малости из старой того коня упряжи, тоже аглицкой?
Господин Яни не мог взять в толк.
— Уздечки, куска седла, удил, наконец, какого-нибудь малого знака…
— Да зачем это надобно? — недоверчиво спросил грек.
Ему не ответили. Он пялил глаза на попа. Удила? Уздечка? На кой ляд? Потом торопливо: нет, он не думает, не помнит…
Боярин насупился. Но конечно, как только Яни прибудет в Галац, то уж непременно обыщет все до нитки. И коли чего найдет, тут же вышлет. Или сам явится.
Чем больше темнел боярин, тем любезней становился Яни. Но напрасно пытался грек его умаслить — дескать, хочет он посмотреть хваленые его табуны, дескать, готов тут же купить и пшеницу, и мед… Старик разъярился и выставил его за дверь да еще велел пошире раскрыть ворота. И тотчас же приказал возжечь курильницу с благовониями и растворить все окна. Господин Яни отбыл, вздымая клубы пыли, в которых, как корабль на волнах, покачивалась его венская карета.
Тут уж и поп отбросил в сторону осторожность.
— Ну, боярин, я так тебе скажу: скакун не аглицкий.
— А какой же?
— Оттуда он, где кони растут злые и дикие, словно кормят их человечиной. От татар или от казаков. Из Буджака, а может, и более дальних мест.
Маргиломан молчал, глаз не поднимая от застланного ковром пола.
— Коли будет на то твое соизволение и твои монеты — пойду по его следу. Я так думаю, что только хозяин, который его растил да холил, может его выследить.
Столковались без труда. Боярин вытащил кошелек и вложил его попу в руки. Уходя, поп сгибался под тяжестью золота, и горб его торчал на спине пуще прежнего. Маргиломан глядел ему вслед недоверчиво.
Вскоре, запасясь разными бумагами и грамотами, поп на своей серой кобыле, привязав к ее хвосту другую лошадь, направился в Барбоши. За несколько дней под цоканье копыт пересек он Бессарабию, с ее светлыми полями подсолнечника, переправился через Днестр и затерялся на дорогах, утоптанных кочующими отарами. Но особливо — как в сказке по следам пепла — тянуло его к местам былых его конских краж, содеянных на этих землях… Он ехал из села в село, от ночлега к ночлегу и повсюду спрашивал, точно в песне, то по-румынски, то по-русски, то по-татарски о пропавшем белом жеребце, горячем и диком, другого такого на всей земле не сыщешь. Сетовал он на то, что нет у него куска уздечки, обломка подковы или стремени, чтоб предъявить их как доказательства, что он владелец коня, дабы ему поверили и наставили на след конокрада.
Усатые казаки слушали его и удивленно поднимали брови. Татары, с глазами за решеткой длинных, как у турчанок, ресниц, принимали его ласково и провожали из аула в аул, потчуя водкой и кумысом.
И сказ о легендарном жеребце, словно ветер, донесся до Кубани, где томился хозяин этого чуда, который, едва о том заслышав, ураганом пролетел десятки верст навстречу чужестранцу, принесшему весть о его Мураде, отпрыске той самой белой кобылицы, на которой Магомет въехал в рай.
К ильину дню священник воротился в сопровождении рослого русского мастерового, не молодого и не старого, в голубой рубахе, приплюснутой кепке с маленьким козырьком, в шароварах с напуском поверх коротких, ниже колен, сапог. Тот прибыл опоясанный разными ремешками, шнурками, веревками, на которых висел весь его инструмент: ножи и ножички, шила и иглы, крючки, рогатки и полированные палочки для холощения жеребцов.
Русский явился к боярину, но тот отложил холощение двухлетних и трехлетних жеребчиков, потому что стояла жара. Впрочем, ему разрешено было оставаться при боярском дворе до весны, когда погода будет благоприятствовать.
Русский между тем отправился бродить по деревням. Были там и кабаны для оскопления, и бычки для холощения, и запаленные лошади, и засекшиеся упряжные, и овцы, страдавшие сибирской язвой; он все науки превзошел и лекарства имел от любой болезни. Иной раз помогал ему поп — тот служил толмачом и зарабатывал на этом кой-какие деньги. Достойный человек был этот русский. Выпить был не прочь, но вел себя весьма уважительно. Одна водилась за ним слабость, от нее не мог бедняга избавиться: день и ночь насвистывал он казачью песенку. Где бы ни появился — в деревне, в хлеву, на ниве, — где бы ни проходил — мимо двора, мимо гумна, по городу или по чистому полю, — везде, куда б его ни занесло, он знай себе насвистывает. А потом стоит и прислушивается, нет ли отклика. Однажды выбил плечом дверь постройки, откуда помни́лось ему в ответ ржание.
Читать дальше