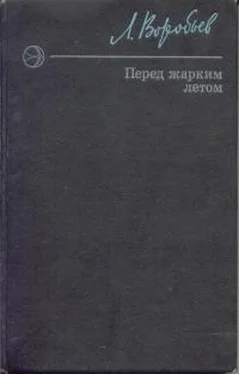— Так-так,—глянул Евстигнеев.—Оговорюсь. В моем представлении понять не значит простить. Слабости не оправдываю, и время ничего не списывает.
— Жестко.
— Да, жестко. Безо всяких киселей... Однако и ты хорош! Как мог подумать, что я отрекся?
— Бывает ведь.
— Бывает, такая жизнь. Со мной, однако, не может, в таком неспособен вилять. Никому не мешает быть
порядочным человеком, а особенно — секретарю обкома.
— Ну, извини, оплошка. Передай и Анечке.
— Горжусь, фортеция за спиной. Всякое бывает, но выдаются замечательные дни, прекрасные мгновенья. Не тягомотина мещанская.
Косырев слушал и отвечал впопад, но смотрел невидяще; надбровные дуги мощно подпирали лоб. Евстигнеев понял, обнял за плечи.
— А ты уж не здесь... Дневник-то, кстати, куда, Толя?
— Отошли ей.
— Да-да. Где же Сережка?
Благополучен, благополучен, подумал Косырев, и не чересчур ли. До отхода оставались минуты, они подошли к вагону.
Сергей прибежал, закурили. Последняя минута. И тут Косырев увидел, что поодаль со спеленутой тяжестью в руке топчется Семенычев. Грибы же, он случайно обмолвился о давней тоске по сибирскому засолу. Не явился на вечеринку, так хоть подарок. При Сергее боится подойти — но вдруг?
— Ладно, идите. Не люблю тянуть, — сказал Косырев.
Они расцеловались.
— Жду в Москве, понял.
Старший обнял младшего, и двое кареглазых, оглядываясь, пошли вдоль состава. Косырев следил, Семенычев прижался к станционному окну. Вагон тронулся. Он зацепился за поручень, издалека помахали Евстигнеев и Сергей.
Поезд медленно двигался вперед, а платформа с провожающими, с фонарями, уплывала назад.
— Анатолий Калинникович! Анат...ой...ко-вич!
Вдоль вагона, обгоняя, поспешал Семенычев. Косырев был уже в коридоре, и над занавеской тайком наблюдал вспотевшее, растерянное, злое лицо. Платформа оборвалась. Семенычев встал, задыхаясь, перед алюминиевым барьером. И исчез со своими подарками и потребностями в серой, в черной дымке с грузом, качавшимся в руке.
Глава восьмая
Поезд в будущее
1
Поезд подрагивал на стыках, набирал ход. До Речинска-нового было километров двадцать. В темноте мелькали огни, но все перекрывало собственное отражение — носатое, скуластое лицо. Прощай, Речинск. И губы расползались горько — может быть, навсегда прощай!
В купе была молодая женщина. На столике — раскрытая сумочка, она поправляла белокурые завитки. Та самая, из гостиницы, надо же. И это сходство. Хотя и вскользь — улыбнулась, он вежливо кивнул. Не узнала. В Речинске-Новом перецепили за несколько минут, снова застучали колеса. Прощай, Речинск! Прощай!.. Она сидела неподвижно, сжав руки, опустив прозрачные глаза в качавшийся пол. Лоб был аккуратно закрыт челкой.
— Простите, у вас не найдется снотворного? — спросил он.
Молча покопалась, вытряхнула на его ладонь таблетку.
Постели были готовы, он забрался наверх. Никак не спалось, и лекарство не действовало, и поезд катился так медленно. Давешние похороны, сто лет назад. Бледная, исплаканная жена Батова нагнулась и, услышал один Косырев, стоявший рядом, сказала: «Прощай, Саня, милый. Спасибо тебе за все, за все»... Вот она въявь — любовь — до гроба, до последней березки.
Любовь. В ней сомневались и те, что гораздо моложе. Ему, так сказать, опытному человеку, сам бог положил. Есть ли она, существует ли? Говорят, любовь неопределима, как зыбь морская; спросите, что такое зыбь, и собеседник сделает рукой быстрое волнообразное движение... Самое смешное, что и ему, Косыреву, была нужна любовь, в его-то годы, а не просто жениться, как сказала с оттенком родительского наставления Марь Васильна. Жениться! Вспышка Еленки, — «вас еще полюбят», — высветила такую Лёну, которая будто бы ждет и не дождется. Куда там. Вдуматься, слова этой девушки объяснялись просто щедростью душевной. И все-таки здесь, в Речинске, Лёна спрашивала о его семье и о нем.
Медленно, слишком медленно движется этот поезд. Такой тягучий многоколесный метроном.
Он не знал ничего. Он выяснит все. Что бы там ни было, он скоро увидит ее. Москва, звонок Николаю Николаевичу и — на два выходных в Ленинград. Все-таки, черт побери, так не поступают.
Медленный экспресс мчал в Москву, отбивал ритм, и вот — а он был предельно взвинчен — сон взял свое. Отвернулся к стенке, не видел и не слышал как возвратилась попутчица. В небытии потонуло и татаканье колес...
Продрав ослепленные глаза, огорошенно посмотрел на часы. Такого давно не бывало, вот так поспал! Двенадцать, Европа, Азия — Сибирь и Урал — остались позади, поезд бежал с последних предгорий, переходивших в дремучие овраги. Леса, заводские ближние и дальние дымы, солнечная ростепель. Телеграфные провода то опускались, то поднимались — зримая гравитация. Устойчивость мира, из которой не вырвешься, деловое постоянство. Колеса: «Ту-лум-басы. бей, бей! За-по-роги, гей, гей! За-по-ро-ги — во-ро-ги! Го-ло-вы не-до-ро-ги!» Со стыками точно укладывалось.
Читать дальше