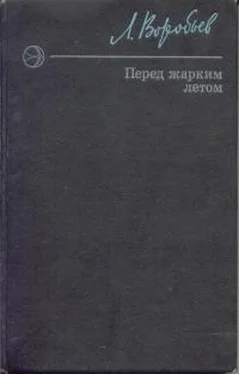3
Вокзал был старый, тупиковый: отсюда речинские вагоны уходили на новый — к магистрали, к дальневосточному экспрессу. Такая досада — лунная ночь, погода летная. Но менять было поздно и что-то там на пересадке, в Свердловске... У кассы стояла очередь; встал и он, переступая шажок за шажком.
Было приобретение мысли. Религия живуча, да, она меняет свою кожу. Но и атеизм может выдвинуть новые доводы — острые, убийственные. Психологически точные. Предположим, бог есть. Но зачем ему религия, зачем голая вера и принужденное поклонение немощного червя? Не по словам и молитвам, а по делам и поступкам он должен судить. Однако скажи бог верующему: предай бессмертную душу вечной смерти, так надо — и верующий воскликнет: зачем мне такой бог! За награду верует. А атеисты — тьма их число — которые не душу мифическую, а жизнь единственную кладут за други своя, не уповают ни на какую награду. Какой парадокс: атеист больше угоден богу! И с парадоксом этим не справиться никакой религии.
Дотла выжигай в себе раба. Не судьба и не бог — сами решаем. Кривому поступку расплата — неповторимая жизнь...
Купив билет, Косырев дал телеграмму, чтобы встретили. В поисках Сергея прошел по перрону, обогнул здание. У подъезда стоял одинокий «Москвич», и в нем, свернувшись калачиком и уютно причмокивая губами, спал незнакомый человек.
За ним следила какая-то женщина; когда обернулся, спряталась за газетный киоск. Присел в углу и снова заметил ее за колонной. Странно. Однако надвинул шапку на глаза и откинулся подремать. Спустя минуту, две ли, кто-то совсем рядом прошептал:
— Анатолий Калииникович...
Тусклое освещение высоких светильников сгладило морщинки, и лицо в темном платке представилось юным, прекрасным — из далека лет. Глаза под искривленными бровями всматривались с торопливым, с искательным интересом, а губы, — в уголке рта подрагивала крупная родинка, — совсем пересохли. Она задыхалась от спешки.
— Это вы, так я и подумала. Узнаете?
Косырев встал. Тоже волнуясь, затруднился с отчеством.
— Ксения... Герасимовна?
— Да-да. Узнали? Мы ж не совсем чужие люди, на одной школьной парте... Ох...
Она огляделась и, взяв под руку, повлекла за собой. Скрываемая платком коса толстым жгутом уходила под пальто, приподнимая его на спине. Бормоча «лишь бы не увидел, вдруг увидит», потянула вбок к серебристым рядам камеры хранения. Между ними и высокими окнами был тупичок, слабо освещенный перронными фонарями. У подоконника она отпустила его, и ее лицо снова представилось нетронутым годами.
— Анатолий Калинникович, умоляю, что случилось у Евстигнеевых? Сережа прибежал убитый. Почему там оказался этот Марцев? Только правду, правду.
Косырев рассказал.
— Но это ложь! Совсем неверно. Боже, какой стыд!
Сквозь соединенные, прикрывавшие лицо пальцы, взблескивая в темноте, покатились слезы.
— Я помешала, и Марцев обозлился, что не втянул. Сережа такой гордый. Он вот-вот прибежит, он кинется к вам!
— Я жду его. И... Знаю гораздо больше, чем... Ну, прямо скажу — случайно читал ваш дневник.
— Тот дневник? — Она подняла вопрошающие глаза. — Думала, бесследно сгинул.
Махнула рукой.
— Пусть так. Я расскажу все, и вы поможете. Правда?
Опустилась на низкий подоконник, он тоже присел. Вытерла щеки девичьим движением ладоней.
— Сейчас, сейчас. Вы поймете, зачем это надо.
Из обрывочного в горьких усмешках рассказа возник голодный и суровый, зимний Речинск времен войны, эвакуации. Когда там жила Лёна. И когда Евстигнеев ушел на фронт, а потом прекратились письма, и одинокая эта, совсем молодая женщина, — знаете, что такое одна? — уверенная в его погибели, стала самобезразличной до пустоты. Тогда и случилось, с расплатой на всю жизнь, но без раскаяния — родился Сережа. После войны только узнала, что жив Ваня, жив, обрадовалась немыслимо, о себе не помнила. Пряталась за уголочками, думала придет, пусть осудит, поплакать-то надо вместе. Все мечтания были поговорить. А он переводики, — солидные, не гроши, — присылал по почте. Сережик болел тогда, и со средствами было туго, но как можно? И пожалела, что сразу не уехала из Речинска...
Косырев слушал сочувственно. Вот откуда слухи-то пошли — из-за переводов. Не мог Евстигнеев, пусть оскорбленный, оставить ее без помощи. Но тут-то и врезалась нелепая и жалкая фраза с дрожанием родинки у сухих губ, что одного Ваню любила, а вот оказалась совсем не святой, слабой, но абортом не захотела прикрыться... Косыреву стало непонятно и неловко.
Читать дальше