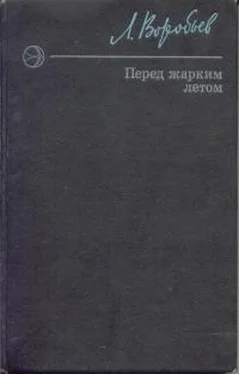— С Еленкой? — переспросил Косырев.
— Еленка — дочь Володькина, — пояснил старик.
Косырев поднялся. Они вошли в подъезд. Темнота — глаз выколи. Подтолкнув его между лопаток на лестницу, старик предупредил:
— Перегородились они с Володькой. Так ты в правую дверь.
Косырев ощупью пробрался наверх по скрипучим деревянным ступеням. Вынул спички, но стена распахнулась, хлынул дневной свет, и навстречу выбежала девушка.
— Ой! Товарищ Косырев...
Стрельнув ясным глазом, она открыла дверь пошире. В лыжном костюме, ботинки наперевес, Еленка, дочь Володькина. Студентка мединститута, конечно; была на лекции и узнала. Косырев бесцеремонно разглядывал ее, а она, заправляя светлую прядь под шапочку, — его.
— Мальчишки пробки вывинтили, — объяснила она. — Но я их, чертей, поймаю.
Однако пухлые губы ее удивленно выпятились:
— К кому это вы?
— К Марцевым.
— Ну-у-у? — выдохнула она в великом изумлении. — Бабушка!
Косырев, не дожидаясь, быстро прошел вперед и с размаху ударился ногой о штабель каких-то банок. В черном платке, худая, монашески строгая, глаза ее смотрели прямо в глаза Косырева, Марья Васильевна.
— Приехал, — сказала она так, будто в этом ничего особенного не было. — Приехал наконец. Ну, раздевайся, Толя.
3
Марцевы были ближе, чем иные родственники. Дружба глав семейств завязалась накрепко не только на рыбалках, и даже не за совместным, на два голоса, пением, и не за разговорами о внутреннем и международном положении. Начало тридцатых опять сжало и взрослых, и ребятишек голодовкой — приходилось крутиться. А Петр Елизарович — молодой учитель железнодорожной школы, имел «провизионку» и, не опасаясь ни бога, ни черта, рад был помочь старшему товарищу. Торбы за плечи, вдвоем, а то и с женами, отправлялись они в глубинку менять спички и стекла для керосиновых ламп на хлеб и молоко. Сестра Лелька, комсомолка, презирала спекулянтство, и когда попутный ветер заносил домой, брезгливо выпивала стакан простокваши. Она не ела, экспроприировала. В шествиях и субботниках молодежи скрывалась огромная сила веры, сила любви и ненависти. Но и у Лельки были слабости — тайком прятала в комоде крем «Метаморфозу», хотела избавиться от веснушек. А поймав ехидный взгляд меньшего братца из-под одеяла — набрасывалась и щекотала до слез.
Толя Косырев подружился с четверкой погодков — сыновей Марцевых. Двое были старше его, двое меньше, а он как раз посредине между Толей-тезкой и Володькой. Для различения Косырев был Толик, а Марцев —Толятя. Вместе ловили баграми отбившиеся от плотов бревна и тащили их на базар, вместе дрались с капустинскими ребятами, жившими по ту сторону теперь засыпанного оврага. И уже в июне прыгали в ледяные воды непрогретой Веди. А летом Марь Васильна увозила их всех в Чутановку, где богатая образцовая сельхозкоммуна могла подкормить прежних выходцев. Ребята ловили раков, замерев, стояли над корягами, пока осторожные отшельники не выползали, шевеля усами и глазами-столбиками. Р-р-раз! — и беспомощный рак, щелкая клешнями, уже валялся на траве... Где четверо, там и пятеро, и не было ничего упоительней вкуса бараньего сала, которое стыло на губах и на нёбе как свечка, и картошки из русской печи. Тогда ребячьи глаза могли видеть восходы и закаты на туманной Веди, слышать щелканье клестов в лесу и пастушьего бича в ранней росе и пыли.
Жизнь была суровой. Но вечерние шествия комсомольцев Речинска — среди них и Лелька в юнгштурмовке — свидетельствовали об упрямой убежденности страны. Школьники весело тащили к казенке черный гроб с чудовищной бутафорской бутылью: стыдить тех отцов, которые потребляли слишком много.
На этом повороте трагедия и подстерегла косыревскую семью. Лелька, студентка юрфака, погибла с областным прокурором. После кулацкого процесса их телегу перевернули в болото: и партиец с дореволюционным стажем, и девчонка-секретарша заледенели в осенней воде. Потом пришел черед Калины Ивановича — разрыв сердца — что, впрочем, могло случиться и тогда, и в любое другое время. Отчаявшаяся мать поехала с Марь Васильной за мукой, — надо было кормить мальчика, — и обе запылали в тифу. Мать умерла, а Толик не мог, не хотел признать этого. «За покойницу!» — кричал со стаканом в руке Петр Елизарович, выпятив пьяный кадык. И все пили, даже смеялись чему-то. Дрожащий Толик ушел во двор и гладил двухмесячного, тоже дрожавшего кутенка, тем утром посаженного для свирепости на цепь. Как он дергался и прыгал, выворачивая шею, надрывно и хрипло лаял, натягивая цепь, и никак не понимал, что не сорвешься! Молочные голубоватые глазки молили проходящих. А к вечеру уполз в будку. Ему и Толику надо было смириться. Не сходить же с ума.
Читать дальше