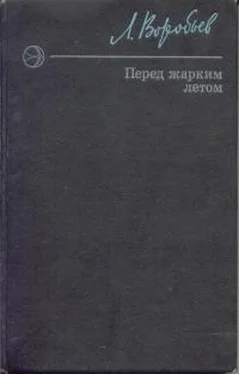И Косырева прорвало. Здесь он мог по-настоящему поделиться своими печалями, в которых сливались две ушедшие семьи, и никого нет — близких людей, и одиночество разъедает. Он рассказывал, глядя на бабушку и внучку, и ему легко было полное и неповторимое сочувствие. Но говорить о Лёне не мог, запрет.
— И вот думать не могу о них, как и о маме раньше. Жить надо, тетя Маша, а жить у могилы нельзя.
Еленка смотрела исподлобья, удерживаясь от слез. Марь Васильна положила на его руку свою — худую, старчески холодную.
— Слушай, слушай-ка... — сказала она. — Мама-то твоя со мной лежала, в одной палате. Смеялась, плакала — бредила. Шутка ли, в один год и мужа, и дочь похоронила, Все просила слабеньким голоском: «пить-пить-пить», и снова «пить-пить-пить», — а я сама в бреду. Очнусь, налью ей, — нянечка не управлялась, — и опять в яму. Горела она и сгорела. Перед смертью очнулась и говорит: «Маша! Ты Толечке скажи, кем бы ни был, пусть кем выйдет, но главное — мол, чтобы совесть берег. Совесть пусть бережет, вот и все».
Сердце стукнуло молотом, жарко стало. Совесть. А он лишь в приправу к науке брал человеческое. Требует всей жизни? Слепа и глyxa наука, когда отстраняется. Пойми же, — ведь и теперь мысли клонятся к ней, к науке дорогой, — переживание не физиологический акт. Нравственный. Потому оно и значит что-то, потому оно и значащее... Оборвал — не сейчас об этом. О совести сказала мама, умирая. И вот пришли к нему наконец слова из дальних световых лет.
Как он просил тогда, как упрашивал — не ездить за мукой. Лишь бы остаться вместе, а он и рыбы наловит. И картошки накопает, лишь бы вместе. Сыпняк ползал по вокзалам, по платформам, по вагонам, по избам. И проколол кожу острым вшивым жальцем, настиг.
Голова его лежала на скрещенных руках, Марь Васильна погладила как ребенка. И заговорила дальше, будто отвечая на невысказанный вопрос.
— А в бога не верила, разуверилась. И меня убедила. Петр Елизарович, молодой, горячий, сколь ни бился, земля — мол, круглая, но не смог. А она смогла. Это после Лелиной, сестры твоей, гибели. Сидели мы на скамейке, и утешала я ее тем светом. А она говорит: «Маша! Зря в церковь ходим, бога нет. Если бы он был, зачем допустил такие страшные вещи? Если мы его дети, зачем он так гонит нас? Такого быть не может, нет его, Маша». И я подумала, правда, нет, на себя надо надеяться, и все. В женотдел Алевтиша тогда и затянула, и пошла писать губерния. Ребят совсем забросила, да.
Она вздохнула, заложила свалившуюся черную прядь за ухо.
— Но без веры жить страшно, все равно нужна вера.
— Какая, бабушка? — спросила Еленка.
— Как — какая? — она повернулась к Косыреву. — Вот, Анатолий Калинникович, ты человек ученый. Скажи, можно знать все?
— Нельзя, конечно.
— Нельзя, то-то. Тогда приходится верить. Лечишь ты, врач, людей, и они тебе верят, коль можешь вылечить. Без веры жить нельзя, только она стала другая — судят по тому, что выходит.
— Это не вера, а доверие, — поправил Косырев.
— Нет, вера, — твердо перебила его Марь Васильна. — Когда все кругом правдиво от мелочи до крупного. Читала я, счетная машина ложь не принимает, работать не может. Так ли? Вот какая нынче и техника, учит быть точными. Честными.
Она усмехнулась легонько своим речам: вот, мол, какими мы грамотными стали.
— Все дерево зависит от нас, от корешков. Нельзя жить ради себя одного; корыта, набей его черной икрой, человеку мало. Всех приведем к полной правде, уже накануне, чувствую. Не зря наш труд и наша кровь, наши страдания.
Марь Васильна подняла на Косырева чернющие глаза, подперлась худой смуглой рукой.
— Иногда все покажется неразумным: крутится, вертится, а зачем? Поняла я: смысл в нас и нигде больше. Нет людей и смысла нет. Но слабых много, Толя. Стыдно говорить, а ведь сломался мой Петр Елизарович. Меня учил обратному, и вот недавно — шасть к богу! Сначала все Библию читал. Мрачный — все думал, вглубь погружался. Потом, ко времени, и чудо ему явилось. Да-да.
Она покачала головой. Что за чудо, подумал Косырев.
— И говорит мне ночью: нельзя доказать, поэтому — выбирай! Смех и грех, в церкви поет. Натянет треух рыжий и пошел, регент. Иконки поразвесил, эту вот картинищу раздобыл. И представь — взбодрился, окреп. Вроде пошла эта религия ему на пользу. Вот тебе и ну, и подумай... Я и думаю. Ожил-то ожил, но как-то чересчур.
Лисий треух? Купол собора, летящие гуси. Люди наверху.
— Не он ли церковь, я видел, красил? — догадался Косырев.
— Он, кому же еще. Не боится, такой-то высоты. Бог, дескать, бережет.
Читать дальше