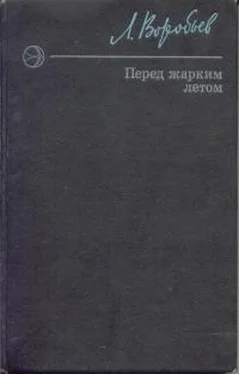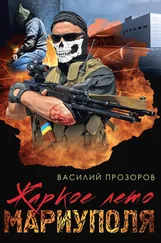Он вышел на улицу. Две школьницы на корточках кормили голубей, воробьи ловко подклевывали крошки, а вороны, помахивая для равновесия черными зубчатыми крыльями, с завистью смотрели с веток, но подлетать не решались. Дело ворон — проворонивать. Посадки разрослись, это был уже настоящий парк, для школьниц древний, старинный.
Посередине, на постаменте светлого гранита, возвышалась вычерченная темнокаменная фигура. Атлет опирался на молот, а взгляд из-под козырька устремлялся в такую понятную и в подробностях предчувствуемую прежде даль. С полной точностью надписи возвещали, что памятник построен рабочими профсоюзами и идейное содержание его такое-то. На барельефах — и баррикады, и сеятель, и леса первых строек, и Ленин, «Пролетариату — гегемону революции». Это был гордый, победно торжествующий памятник.
Он принялся отсчитывать известное число маленьких шажков. Еще не дойдя, увидел. Вокруг стояли пихты, посаженные школьниками. А фельдшерский сын посадил березку, единственную. Он опустил ее в ямку, — отец держал, — подсыпал торфа с навозом, полил. И теперь мог погладить белую кору, прижаться щекой к прохладной, шероховатой поверхности, а слух бы потоньше, поймать стремление соков против силы земного притяжения. И еще тогда стояла высокая береза, погубленная сегодня железным кузовом.
Да, Косырев принадлежал к поколению, зарожденному в начале двадцатых годов, в гражданскую и в голодные годы. Оно переживало смерть Ленина после этой смерти. Оно не успело поднимать первую и вторую пятилетки. Его долг пришел с Отечественной, с пограничных застав, и его взлет был отмечен сороковыми. Роковыми. Но и высокими, счастливыми. Это была гордость вступивших в смертельную схватку, — поколения не жалкого, ограниченного Я, а нашедшего себя в других, в товарищах по оружию.
Недавно, в проходном разговоре, Косырев на лету запомнил: сорокадесятники. Не то чтобы слово это было метким. Но тем, кто в силу зрелого охвата мысли и достаточной удаленности от финиша, жил с предельной отдачей, дали имя. Редкие уже от рождения, они отличались, можно сказать, особыми чертами. Они испытали счастье полного самопожертвования и бессребреничества, выдержали искус разоблачений. И не возлагало ли это на них некоей добавочной ответственности?
Косырев еще раз глянул на глыбу памятника. Пора было идти.
Посадки шли вдаль. На правой стороне они обстроились новыми коробками. Но на левой все было по-прежнему. И память, как заведенная, шагала своими шагами: окружающее казалось проекцией живого прошлого. Будто не было ни зимы на переломе весны, ни скрипа ботинок по наледи, ни многочисленных, торопившихся по делам прохожих, а мягкая теплая пыль принимала по щиколотку мальчишеские ноги в цыпках.
По соседству с лазаретом притулился лабазик с замурованной теперь дверью. Распахнутый внутренним взором, он сосредоточивал последнюю ненависть дяди Игната, так и не увидевшего конечного торжества. Тучный, громоздкий лавочник Герасим Семенихин, сын основателя лазарета, после трехлетнего исчезновения,— может, и у колчаков, да шито-крыто, — взошел на нэповских дрожжах, на рыбном товаре — осетрине, икре, раках и нельме. Совслужащие помельче первыми срывали перед ним картузы и кепки, что вызывало презрительный плевок дяди Игната. Но на грани тридцатых Семенихин осел, как проколотый шар, — свободная толстовка намекала на прежние размеры, — и тихонечко поторговывал готовым винегретом и карандашами. Бархатная книга, которая лежала в чемоданчике Косырева, стояла тогда на полке, как символ прежнего размаха операций. У дочери Семенихина Ксении — девочки умненькой и насмешливой — он обнаружил в забытом на парте альбоме, среди ангелочков и розочек, такое двустишие: «Долой пасху и куличи, да здравствуют советские кирпичи!» Бессильная злоба. Семенихин, стоя на пороге, мог только одно — провожать мрачными, подсчитывающими глазами. Отощавший вождь табора, хоть серьгу в ухо. Да так оно и было: бабка Ксении ушла из цыганского хора за богатевшим купчиком, и кровь эта закрепилась в Семенихиных прочно. И в Сергее вот тоже проявилась.
Отец злобствовал, а Ксения раздваивалась. Она приходила на демонстрации и, робко озираясь, с завистью поглядывала на стоптанные башмаки и новые юнгштурмовки комсомольцев. Но тут же вспыхивала от сожалеющих глаз — не своя. Красивая была девочка, толстые черные косы. Худенькая чернушка. Потом служила в здравотделе, машинисткой. И надо же такое, Иван Евстигнеев глаз с нее, как говорится, не сводил, в кино приглашал, а она, враг, двумя годами старше, только улыбалась презрительно. Он был настырный парень, но задавил гордость, отступил. По-братски исповедался Толику. В темноте качались красные и зеленые огоньки бакенов, подавали голос пароходы и буксиры. Они сидели на берегу Веди, покуривали, как взрослые. Косырев навсегда уехал из Речинска, и из Ксениного только дневника узнал, что потом они подружились...
Читать дальше