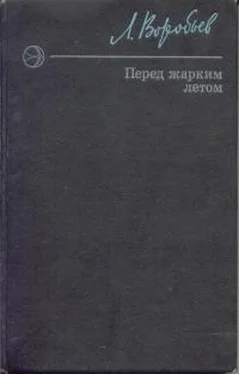— С ума сойти. За тайменя — и трех килограмм нет — восемь рублей. Спекулянты паршивые.
Семенычев презрительно перевел брови.
— А ты что думала? Профессор из Москвы, директор института. Тут надо с местным колоритом и не одни пельмени.
На проглянувшем солнце он стоял как монумент, над полуботами белели шерстяные носки. Из сетки выглядывал задумчивый оскал тайменя. Врет мадам, килограммов на пять.
— Соображать надо, — ворчал Семенычев, глядя мимо. — Тут диссертация горит. Столько работал, а он — Комаром. Посоветоваться надо, фигура повыше Нетупского.
И вдруг хлопнул себя по бокам.
— Ай-я-яй! Шампанское! Постой здесь, я мигом.
Семенычев заскрипел назад, и Косырев спокойно вышел на улицу. Мадам с надменным любопытством обмерила с головы до ног. Выбритые брови, насурмленные щеки, она следила за собой. Однако знать Косырева ей было неоткуда.
Так-так. Все сейчас пишут диссертации. Дай ему докторскую степень, все перевернет. Упомянутый Олег Викторович Нетупский любил покровительствовать энергичным людям. У них нечто вроде тайного ордена и — знаки, что ли, условные подают? — узнают друг друга с полуслова. Не повезло Семенычеву у этих, у ворот. Косырев как член экспертной комиссии возьмет на заметку: что это там за вклад в науку?
Положительно прийти на вечеринку он ему не обещал. А теперь и не мог... Семенычев был доведен, казалось, до точки. И Косырев тотчас перестал думать об этом.
Улица перед ним вела в прошедшее время, в ослепительный свет детства. Скорей, скорей. Асфальт кончился, колдобины, примерзшая грязь. Косырев незаметно полетел забытым мальчишеским бегом, на пружинках. Последний поворот.
Дом стоял. Родной дом стоял все тридцать лет наяву, а не только отпечатком в памяти.
У времени один путь — в пространстве. Однообразное вращение часовой стрелки издавна намекало каик слиянность. Бытие соседствует с небытием. Было и нет. А чего-то не было, но оно будет, оно есть. Из ничтожного зверька возникает племя теплокровных, потом человек. Откуда все берется? Куда исчезает?
Динь-бом! Динь-бом! Динь-бом!
Века, годы, минуты — это сеть механического, равномерного времени. Гораздо сложнее — гамма биологических ритмов. Но и это не все время. Наше — неравномерно. Оно то замирает, то мчится ракетой, то униженно ползет, то вздымается на вольных крыльях. Оглянешься, и то, что казалось тягучим, уплотняется до бессодержательной точки, а то, что пролетело, приобретает длительность. Память людей обращена ко времени переворотов — там день равен столетиям.
А в жизни каждого из нас? Свойство живых систем: как кольца в стволе дерева, в них откладывается время — и мощные слои, и эфемернее паутины. Наша судьба. Можно за тридцать лет прожить огромную длительность. А за целый век — не прожить ничего.
Техника сжала пространство и время. Жизнь идет быстрее, скачки поколений становятся разительнее. Она, как стрела, летит по блистающей спирали, отрицая и сохраняя все победы мысли и действия. Хочешь не хочешь, соединяй! Без возвращения нет движения вперед. Без повторения нет устойчивости, нет семьи и общества. Нужно помнить тех, кто в порыве к счастью был обречен на тяжкий труд. Это подвиг самоотвержения, вольный или невольный. Помни о родных, помни о трудящихся.
Жизнь ведь это только миг,
Только растворенье,
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.
Каждому поколению — восторги и мучения, И если путь общий известен, то подробности всегда прячутся во мгле.
Человек — это сегодняшнее Я, чуждое и прошлому, и будущему — вещает экзистенция. Ложь! Я всегда с другими, как плод с деревом, как стрела с мишенью, как рабочий со своим классом. Я это Мы, а не осколок погибшей планеты, которому осталось пробороздить чужое небо ночным метеором. Всегда и снова ты ответствен за себя и за близких, за своих и чужих. Не уклоняйся, пропадешь!
Заповедное каждого — детство и юность. Здесь все в первый раз, от запаха пыли до мерцающего пламени звезд. Настройка души, свобода изменений, радость в огне. Жизнь бесконечная — не видно ни начала, ни финиша. А потом мы снова и снова приникаем к этому источнику необъятной длительности, чтобы набраться сил на тернистом нашем пути.
Имя лука, стрелой поражающего, — жизнь.
Дом стоял.
Он был необычный, родной дом. Трехэтажный и модерный, каждое окно размашистым фасонным полукругом; над ними щерились гипсовые чудовища. И дата — 1913 — тот еще, дореволюционный модерн.
Читать дальше