Прощаясь с учителем во дворе, Винченцо решился на вопрос:
– Скажите, сколько мама платила вам за урок? Я надеюсь вернуть ей долг.
Джульетта побледнела.
– Ничего не платила, – ответил Гримм. И добавил, видя изумление на лице мальчика: – Ведь преподаватель гимназии – не только работа, но и призвание.
Винченцо стыдливо опустил глаза:
– Я верну вам долг.
– Непременно, – улыбнулся Гримм. – Мы будем в расчете, если сумеешь применить в жизни то, чему научился.
На другой стороне улицы от дерева отделилась тень.
Солнце взошло сразу после того, как мы выехали из Рима. Тело отяжелело – только сейчас дала о себе знать бессонная ночь. За окнами мелькали городские окраины, кучи мусора под ржавым дорожным ограждением. Похоже, мы попали в другую эпоху.
Винченцо молчал, я тоже. Нам обоим требовалось время освоиться в этом новом мире. Я подняла голову от дневника. Винченцо курил. Обветренное лицо с тонкими чертами, кудрявые темные волосы. Дневник его матери стал для меня ключом к нему самому. Не узнай я, каким Винченцо был в детстве, он бы так и остался для меня чужим – человеком, который не мог быть моим отцом.
– Может, почитаешь мне вслух? – предложил он.
– Не знаю, надо ли.
– Как-никак она моя мать.
Впервые в голосе его послышалась обида. Это меня неожиданно тронуло. Винченцо вытряхнул сигарету из помятой пачки и опустил стекло. В лицо пахнуло утренней свежестью. Желтые страницы дневника зашелестели, и что-то упало на пол. Я нагнулась – фотография. Винченцо, лет пятнадцати, с растрепанными темными волосами, сидел на скутере. Из-под воротника дафлкота выглядывал медальон-сердечко – символ Октоберфеста. Скептический взгляд устремлен прямо в камеру. Но я никогда не верила показному бунтарству, уж очень часто им прикрывают неуверенность в себе.
На плече Винченцо лежала большая рука – все, что осталось от вырезанного из снимка мужчины. Без сомнения, это Энцо. И еще одна фигура рядом с мальчиком была вырезана.
Я протянула снимок Винченцо. Он зажал его в пальцах руки, лежавшей на руле. Некоторое время фотография прыгала перед его носом, словно интригуя. Между тем и этим Винченцо пролегло полжизни. Знать бы, в какой момент человек из одного становится другим.
– А это что?
Винченцо кивнул на бумажку, приклеенную к странице дневника.
Я развернула листок. Письмо.
Глубокоуважаемая фрау Маккарони,
С радостью сообщаем Вам, что вашему эскизу платья присуждено первое место в нашем читательском конкурсе. Он будет опубликован в следующем номере журнала.
Винченцо улыбнулся.
– Ты помнишь? – спросила я.
Он кивнул. Вытряхнул еще одну сигарету.
– А почему это тебе так интересно?
– Тебе разве нет? – удивилась я.
– Я давно оставил это в прошлом.
Оставил в прошлом. Да, конечно, ведь это его жизнь. Это для меня все словно происходит сейчас, впервые. Чтобы событие стало прошлым, его надо пережить.
– Она повесила это письмо в лавке. Как диплом или сертификат.
– И она двинулась дальше? Ну… я имею в виду клиентов и все такое.
Винченцо молчал, думая о чем-то.
– Она все время проводила за прилавком, – наконец сказал он. – Джованни постоянно уезжал… Они с Розарией жили то там, то здесь. А клиенты… к ней ходили одни гастарбайтеры – кому укоротить брюки, кому сшить свадебное платье… Это было не то, о чем она мечтала. К тому же у них с Энцо не было лишних денег на ткани, они все откладывали на свое жилье.
– А ты? Ты хотел уехать или остаться?
Винченцо посмотрел на меня:
– А с какой стати тебя это интересует?
Стоило заговорить о нем самом – и сразу барьер.
– Да просто так.
– Мы жили там и в то же время не жили.
– И Джованни?
– Да.
Разговор стопорился. Винченцо явно не был настроен откровенничать. А я не хотела ему показывать, что уже воспринимаю его семью как свою. Я снова углубилась в чтение дневника, но Винченцо вдруг заговорил:
– Лето семидесятого, вот когда они начали воспринимать нас всерьез.
Я вопросительно смотрела на него.
– Матч века, слышала о таком?
– Я тогда еще не родилась.
– О да… – Он усмехнулся. – Полуфинал Италия – Германия. В Мехико. Ты любишь футбол?
– Скорее то, что его окружает. Шум, публика…
– Лучшая игра всех времен. Весь город сидел перед телевизорами, ни души на улицах. Кроме гастарбайтеров, конечно. Мы вынесли из лавки Джованни телевизор и стулья. В Германии тогда было запрещено сидеть на тротуарах. В немецких ресторанах столики ставили только внутри, так что мы стали пионерами. Взяли и сделали это… – Он усмехнулся. – Времена, когда немцы питались яичной лапшой и «сырными ежами» [116] «Сырный еж» – оформленный в виде ежа десерт из сыра, овощей и фруктов.
, а Тоскану считали рассадником снобов от культуры… В общем, мы сидели на улице и громко болели за Италию. Мы проигрывали, счет сравняли незадолго до финального свистка. Потом – дополнительное время. Бекенбауэр со сломанным плечом ковылял по полю – это надо было видеть! Но в результате 4:3 в нашу пользу. Можешь представить себе, что это для нас значило! В ресторанах официанты срывали передники и танцевали на улицах. Мы праздновали всю ночь. Из окон кричали: «Заткнитесь!» – но нам было начхать. В мгновенье ока из презренных «макаронников» мы стали победителями. Все изменилось, в первую очередь мы сами. Теперь мы гуляли по улицам с высоко поднятой головой. А потом мы изменили Германию, и здесь открылись приличные кафе. Это в то лето в Мюнхене появился настоящий капучино, не со сливками, а, как положено, со взбитым молоком. И на школьных дворах установились другие порядки. Из последних мы стали… ну, не то чтобы первыми… просто теперь кое-кто оказался под нами. Прежде всего, турки, которые появились позже. «Тминные турки» [117] «Тминный турок» (нем. Kummelturke ) – выражение из лексикона студентов XVIII века. Первоначально – студенты из городских окраин и предместий, называемых на студенческом сленге «Турцией». В настоящее время используется в том числе и как обозначение настоящих турок, переселившихся в Германию.
, как называли их мы, бывшие «макаронники», и вымещали на них все то, что в свое время терпели от немцев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



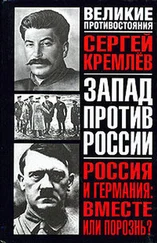



![Даниэль Шпек - Piccola Сицилия [litres]](/books/392926/daniel-shpek-piccola-siciliya-litres-thumb.webp)




